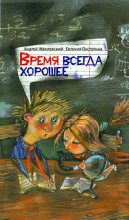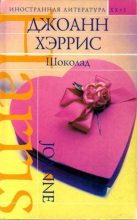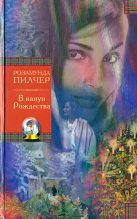вспомните газетный шорох.
Проклятый год, который всем нам дорог.
А я хочу, чтоб голос мой замолкший
Напомнил вам не только гром у Волги,
Но и деревьев еле слышный шелест,
Зеленую, таинственную прелесть.
Он работал все это время на износ, смертельно устал — ведь когда началась война он был немолодым человеком, ему было уже пятьдесят. Ему казалось, что написанное им — свыше полутора тысяч статей — недолговечно, как превращающиеся в труху ломкие газетные страницы. Отсюда в его стихотворении пренебрежительное «газетный шорох». Он был не прав. Но так он думал. В самый разгар войны, в 1943 году, в одной из статей он писал: «Писатели пошли в газету, как всходят на трибуну, — это не их рабочий стол, это не их место. Но и блиндаж не место сталевара или садовника. Война переселяет людей и сердца. В мирное время газета — осведомитель. В дни войны газета — воздух. Люди раскрывают газету, прежде чем раскрыть письмо от близкого друга. Газета теперь письмо, адресованное лично тебе. От того, что стоит в газете, зависит и твоя судьба».
Так понимал он свой долг. Эренбург был блестящим публицистом. Главный его жанр — статья, вернее, эссе. Никто не достигал тут тех высот, которые были доступны ему. Когда был сдан Киев, и об этом очень тяжелом нашем поражении даже не смогло, не решилось сообщить в своих сводках Совинформбюро, Эренбург об этом страшном ударе написал — нашел слова любви и горя: «Я родился в Киеве на Горбатой улице. Ее тогда звали Институтской. Неистребима привязанность человека к тому месту, где он родился. Я прежде редко вспоминал о Киеве. Теперь он перед моими глазами: сады над Днепром, крутые улицы, липы, веселая толпа… Настанет день, и мы узнаем горькую эпопею защитников Киева. Каждый камень будет памятником героям» («25 сентября 1941 года»). У него редко можно встретить описание в чистом виде. Пейзаж, зарисовка сразу же укрупняются, приобретают символический смысл: «Когда в июньское утро первые выстрелы вспугнули жаворонков, они прозвучали как диссонанс. Все вокруг не соответствовало этим звукам: и мирные села, и медленно дозревавшие колосья, и детвора на улицах пограничных городов, и сердце человека, еще продолжавшее мирно биться. Как изменилась наша страна! Стоят яркие осенние дни. Вокруг блиндажей березы как бы истекают кровью. Зловещая пестрота последних листьев сродни войне» («Свет в блиндаже»). Собственные впечатления и наблюдения — а он, сугубо штатский человек, не раз ездил на фронт, преодолевая сопротивление своего газетного начальства, опасавшегося этих командировок и не желавшего выпускать газетный номер без статьи Эренбурга, — входят в художественную ткань его текстов на равных правах с письмами, документами, цитатами из газет, свидетельствами очевидцев, показаниями пленных и т. п. Он пишет: «Я проехал триста километров по земле, отвоеванной у немцев. Зимой снег сострадательно прикрывал раны. Теперь повязка снята. Там, где были дома, крапива, чертополох и, как сорняки, немецкие шлемы, скелеты машин, снаряды» («По дорогам войны»).
Контрастное сопоставление, резкий, подчеркнутый переход от частной, но поражающей воображение детали к обобщению, от безжалостной иронии — к сердечной нежности, от гневной инвективы — к воодушевляющему призыву — вот что отличает стиль Эренбурга. Часто уже сам «монтаж» фактов высекает мысль, подводит читателя к выводу, который цель Эренбурга: «Когда Леонардо да Винчи сидел над чертежами летательной машины, он думал не о фугасных бомбах, но о счастье человечества. Подростком я видел первые петли французского летчика Пегу. Старшие говорили: „Гордись, человек летает; как птица!“ Много лет спустя я увидел „юнкерсы“ над Мадридом, над Парижем, над Москвой…» («Сердце человека»). Внимательный читатель публицистики Эренбурга не может не почувствовать, не догадаться, что автор ее обладает незаурядным поэтическим даром. В его публицистике постоянно проявляется присущий ему мощный лирический напор: «Нелегко вырастить плодовое дерево: много оно требует труда и забот. А чертополох невзыскателен. Гитлер, создавая свою „гитлеровскую молодежь“, потворствовал самым низким инстинктам человека. Он не воспитывал, он натаскивал, науськивал» («О патриотизме»). Или: «Это началось с малого: горел рейхстаг, подожженный фашистами. Это кончается на том же месте пожаром Берлина» («27 апреля 1945 года»). Эренбург дает общий план войны, прислушивается к шагам истории, его внимание сосредоточено на взаимоотношениях народов и государств, столкновении политических доктрин, нравственных принципов. Последнее — нравственные принципы — для него особенно важны, они всегда у него на первом плане…
Статьи Эренбурга не были журналистикой — какие бы заслуженные им самые высокие оценочные определения я не поставил бы перед словом «журналистика» — все это будет неточно. То, что он писал тогда, было неотъемлемой частью великой народной войны против фашизма, он выражал чувства и мысли людей, сражающихся с захватчиками, их веру в победу, был их голосом.
Об этом говорят все работавшие рядом с ним, печатавшиеся в одной с ним газете, коллеги — писатели и журналисты. Алексей Сурков: «Мне посчастливилось на протяжении трех военных лет работать рядом с Эренбургом в дружном, спаянном общим патриотическим порывом коллективе работников центральной военной газеты „Красная звезда“. Этот коллектив включал в себя и Симонова, и Павленко, и писавшего из блокадного Ленинграда Тихонова, и Габриловича, и целую плеяду талантливых военных журналистов. Эренбург был среди нас самым старшим по возрасту, литературному и жизненному опыту. Ему уже тогда перевалило за пятьдесят. Но никто из нас, работавших беззаветно и самозабвенно, кроме разве молодого Симонова, не мог сравниться по неиссякаемой энергии с этим старым „газетным волком“».
А вот свидетельство военной поры — сорок четвертого года — этого «молодого Симонова», которого Сурков поставил вслед за Эренбургом:
«Мне рассказывали люди, заслуживающие полного доверия, что в одном из больших объединенных партизанских отрядов существовал следующий пункт рукописного приказа:
„Газеты после прочтения употреблять на раскурку, за исключением статей Ильи Эренбурга“.
Это поистине самая короткая и самая радостная для писательского сердца рецензия, о которой я когда-либо слышал.
Когда думаешь об Эренбурге, хочется прежде всего сказать о нем просто, что он принят на вооружение нашей армии, и хотя это сравнение, конечно, не мне первому пришло в голову, — хочется повторить его, потому что оно предельно точно. Именно принят на