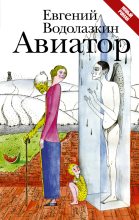Итало Кальвино
Барон на дереве
I
Последний раз мой брат, Козимо Пьоваско ди Ронду, был в кругу семьи 15 июня 1767 года. Я помню все так, будто это произошло вчера. Мы сидели в столовой нашей виллы в Омброзе; в окна заглядывали густые ветви могучего падуба. Был полдень, и наша семья, по старинному обычаю, уже сидела за столом, хотя в то время многие дворяне переняли у ленивого французского двора манеру обедать ближе к вечеру. Помнится, с моря дул ветерок, шевеля листву. Козимо крикнул:
— Сказал — не буду, значит, не буду! — И оттолкнул тарелку вареных улиток.
Подобного непослушанья никто не ожидал.
Во главе стола восседал наш отец, барон Арминио Пьоваско ди Рондо, в давно вышедшем из моды парике а-ля Людовик XIV с длинными, закрывавшими уши локонами. Впрочем, почти все, что носил наш отец, давно вышло из моды.
Между мной и Козимо поместился аббат Фошлафлер, милостынеподатель нашей семьи и наставник — мой и брата. Напротив сидели мать семейства «генеральша» Конрадина ди Рондо и наша сестра Баттиста, домашняя монахиня. На противоположном конце стола восседал облаченный в турецкие одежды кавалер-адвокат Энеа-Сильвио Каррега, управляющий, он же управитель земель и вод в наших владениях. Будучи незаконным братом отца, он доводился нам дядей.
Несколько месяцев назад, когда Козимо исполнилось двенадцать, а мне восемь, нас допустили за родительский стол. Впрочем, я удостоился этой чести раньше срока: они не хотели, чтобы я обедал один. Я говорю «удостоился чести» не без горечи. На самом деле для нас с Козимо сразу же кончилось привольное житье, и нам оставалось лишь оплакивать обеды в нашей комнатке, в компании одного только аббата Фошлафлера.
Аббат, сухой, морщинистый старик, слыл янсенистом. Ему и в самом деле пришлось бежать из своего родного Дофине, чтобы спастись от суда инквизиции. Но непреклонность характера, которую все дружно восхваляли, высокие нравственные требования к себе и другим постепенно уступали место природной вялости и равнодушию, словно долгие раздумья в те часы, когда он сидел, устремив глаза в пустоту, породили в нем скуку и отвращение ко всему и убедили, что даже самая малая трудность есть перст судьбы, а значит, бесполезно с ней бороться.
Обедая под надзором аббата, мы, прежде чем сесть за стол, долго повторяли вслед за ним молитвы и в начале трапезы в полном молчании размеренно поглощали пищу ложку за ложкой; горе тому, кто поднимал глаза от тарелки или глотал бульон, громко хлюпая. Но уже после первого блюда аббат утомлялся и, вперив взгляд в пространство, причмокивал языком при каждом глотке вина, словно ему остались лишь эти преходящие, минутные радости. Второе мы уже преспокойно ели руками, к концу обеда начинали кидаться огрызками груш, а старый аббат лишь время от времени лениво бросал:
— O-oh bien! O-oh alors![1]
Теперь же, за общим столом, нас ожидали обычные семейные попреки — самая печальная страница детства. Отец и мать глаз с нас не спускали, только и слышно было: «Кур едят ножом и вилкой», «Сиди прямо», «Убери локти со стола». И в довершение всего эта язва Баттиста, наша милая сестрица, ухмылялась.
Все шло одно к одному: на нас кричали — мы делали назло, нас наказывали — мы упрямились еще больше, и так до тех пор, пока однажды Козимо не отказался есть улиток, твердо решив отделиться и пойти своим путем.
Это переплетение взаимных обид стало для меня понятным много позже, а тогда, в восьмилетнем возрасте, все казалось игрой; даже воюя со взрослыми, мы как будто играли в войну, я и не подозревал, что за упорством брата кроется нечто более глубокое.
Наш отец, барон ди Рондо, был, несомненно, человек незлой, но очень скучный — скучный хотя бы потому, что всю свою жизнь руководствовался устаревшими представлениями, как это часто бывает в переходную пору. Смутные времена вызывают у многих смутные стремления, и люди начинают действовать совершенно невпопад. Вот и мой отец, когда все клокотало в ожидании великих перемен, носился со своими притязаниями на титул герцога д’Омброза и ни о чем другом не думал, кроме генеалогии, престолонаследования и соперничества или союза с владельцами ближних и дальних замков.
Одним словом, мы жили так, будто нас в любую минуту могли призвать ко двору — не знаю уж, императрицы ли австрийской, короля Людовика или же этих коронованных дикарей из Турина. Если на второе подавали индейку, отец бдительно следил, режем ли мы ее и сдираем ли кожицу по всем правилам придворного этикета, а аббат, которому надлежало во всем подпевать отцу, почти не притрагивался к еде, дабы самому не оскандалиться. Здесь же за обедом нам открылась вся фальшь души кавалер-адвоката Карреги: под полой его длинного турецкого одеяния исчезали целые индюшачьи ножки, потом он, спрятавшись в винограднике, с аппетитом поедал их, откусывая кусок за куском. Мы с Козимо готовы были поклясться — хотя нам ни разу не удалось поймать его на месте преступления, столь ловко и быстро он это проделывал, — что он садился за стол с карманами, полными обглоданных косточек, и высыпал их потом на тарелку вместо исчезнувших нетронутыми кусков индюшатины.
Наша матушка, «генеральша» Конрадина ди Рондо, в счет не шла, так как даже за столом она сохраняла свои по-военному резкие манеры.
— So! Nog ein wenig! Gut![2] — командовала она, и никто не находил в этом ничего особенного. Но нас она стремилась приучить если не к этикету, то к дисциплине и помогала мужу своими уместными скорее на плац-параде приказами:
— Sitz’ ruhig![3] Вытри рот!
И только Баттиста, домашняя монахиня, чувствовала себя за столом в своей стихии: с упорством и тщанием, чуть ли не на отдельные волокна, разрезала она цыплят специальными остро отточенными ножичками, какие были только у нее и очень походили на ланцет хирурга. Отец, которому следовало бы ставить ее нам в пример, не решался взглянуть на нее: своими частыми мелкими зубами и выпученными глазами на желтом мышином личике, затененном широким накрахмаленным чепцом, она нагоняла страх даже на него. Итак, нетрудно понять, что именно за столом получало выход все накопившееся раздражение, вся давняя неприязнь между членами нашего семейства и обнаруживались странности одних и лицемерие других, вот почему и бунт Козимо вспыхнул за столом. Именно по этой причине я рассказываю столь подробно о наших семейных трапезах, тем более что в жизнеописании моего брата, как вы убедитесь в дальнейшем, уже больше не придется описывать накрытый стол.
Столовая была единственным местом, где мы встречались со взрослыми. Все остальное время мать проводила у себя в