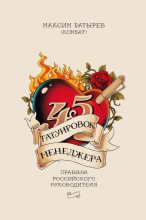Н Ляшко
Стремена
I
Окна в ледяных бельмах. Сквозь бельма мутным молоком просачиваются дни и тусклые, пронизываемые фонарем с перекрестка, ночи.
Между бельмами, против смятой постели, печь. Приземистая, в кирпичах. Длинным коленом труб впилась у двери в стену и слушает. Вот-вот услышит, откроет сизый от золы, закопченый рот и зашамкает.
Дни напролет, — порою и вечера, — дверь на замке. А вокруг глаза. Глядят со стен, с простенков, с двери, с бока шкапа, — нарисованные и более жгучие, чем живые. С кусков картона, бумаги, полотна, холста и фанеры, прибитых друг на друга, — чтоб не видно было лиц, — светят из волн графита, угля и красок, огромные и маленькие, круглые и вытянутые.
Под их взглядами, когда дверь открыта, даже живое багровеет и спешит прочь. А каково под замком, когда бельма не впускают ни дней, ни ночей?.. Глаза пронизывают, наваливаются. Шестьдесят пять пар, а кажется, их тысячи.
Жгут и судорожат глаза убийц и убиваемых.
Глаза мучителей вызывают гнев.
Глаза унижаемых, бессильных, глупых, голодных знобят.
Глаза рабов толпою: одни покорны, просящи; другие взметнули ресницы и будто плывут по воздуху; третьи увидели страшное и замутились; в четвертых кроваво полыхает Карманьола.
Глаза нищих молят и изучают.
Глаза пьяных горят из тины.
Глаза предателей перегорожены: льстят и выжидают.
Глаза покорившихся — в дыму.
Глаза довольных лоснятся блеском луж.
Детские раскинулись звенящей стаей.
Глаза лошадей, коров, баранов, собак и филинов горят мудрым скотским покоем.
Под взглядами покоробились стулья, кресло и диван провалились, мольберт посерел, стена позеленела и столик с эскизами загрязнился. Под взглядами и труба выросла, — они заставили печку отростить ее, впиться в стену и слушать.
Глазам тягостно под бельмами окон на третьем этаже. Тот, кто сорвал их с лиц на улицах, в очередях, на собраниях и манифестациях, не тюремщик. С ним они летели к задуманному. А теперь некому мчать их, некому любить и ненавидеть. Они за бельмами, а он в больничной палате. Десятки лет батрачил и рисовал, рисовал. Десятки лет жизнь глядела ему под руку и смеялась:
— Я — камень, мазней не пробьешь меня…
Смех этот огнем вливался в его тело, в его сердце и выпрямил их. В революцию, в холод и голод, с кисти в холодных пальцах, с мысли в голодном теле брызнуло светом. И все отпрянуло от оживших холстов, бумаги, красок, угля и графита:
— Смотрите, смотрите…
Но победившие руки упали. И каждый раз, когда в коридоре раздавался шум, глаза приказывали печке:
— Слушай, кто там? Не он ли?
И дрожали от желания спрыгнуть со стен, толпой в сто тридцать зрачков удариться о дверь, — и на холод. Заглядывать на улицах в глаза людей, пугать выставки, где к полотнам приклеены клубники, апельсины, разлагающиеся домики и немые речушки. И нестись вдоль Москвы, — в больницу, к творящим рукам.
II
Среди глаз висит странный портрет. Автора его называли и не раз назовут полоумным, выскочкой. Обычно авто и просто портреты — даже самые смелые — это груди, плечи, лица — и все. Нарисуют человека, он и улыбается с полотна. И не подозревает, на какую пытку обрекли его кистью. Люди гадают перед ним: кто он? что любит? что ненавидит? куда рвется? к чему? Ощупывают его: вот нос. Похож на римский. Значит, еще в Риме были такие. Щупают глаза: светлые. А где нет светлых глаз? — и в Вычегодском крае, и на Украине, — везде есть. В глазах радость или грусть. А кто на свете не грустит, не радуется? И тот, кто предает, и тот, кого предали, — все. Но пусть скажет портрет, почему грустит или радуется нарисованный? Распятый он или сам распинает? (Распинающих рисуют чаще… Христос не в счет.)
Стоят и гадают, бормочат губами, скрипят перьями, будто дни у них не быстрые кони, а стены.
Висящий среди глаз портрет иной.
Вверху темно-голубой фон. Внизу, справа, раскинулись поля, дороги, перелески, избы и лес. Слева, набегая на глядящего, синеет море с пароходами. Через море к заморью радугой ринулся мост. На берегу громады завода и железная башня радио-станции. Над мостом реют железные птицы, а среди них, в темно-голубом, звезды.
От полей к радио, к заморью, к железным птицам и звездам взметнулся скакун. Передние ноги его в выси, а задние в бороздах полей. Голова у скакуна не лошадиная. Если взять фотографию хозяина комнаты, художника, бывшего кухонного мальчишки, батрака, рабочего, корректора, арестанта, т.-е. если взять фотографию Пимена Моренца да сличить его голову с головой скакуна, поразит сходство.
Из груди скакуна к звездам, к заводу и радио выстрелило лучами. А назад, к перелескам, к избам и лесу, — где вот-вот покажутся люди в рубахах с красными ластовицами, — к полям тянутся и влекут скакуна назад кровянистые молнии. Скакун рвется к заводу, к звездам, к радио, за море, а дороги, перелески и поля не пускают, тянут назад. Скакун взмыл, но руки полей цепки, — впились в жилы-молнии, как возжи, и влекут назад, к сутеми перелесков, к избам. По жилам его на них сочится кровь. И кто кого? Он пересилит? — и кровавые возжи хрястнут. И тогда врозь: поля обольются его кровью, а он помчится к заморью, к радио. Или его жилы вытянутся, и он коснется радио и по жилам-проводам пустит на поля потоки света?
На лице скакуна вызов и боль. Из-под копны волос сверкание, а из уст крик: он дотянется, нет силы, которая смяла бы его, а у него нет силы уйти от мук познавшего новое, величественное и распятого на убогих полях, дорогах, перелесках и избах.
III
В толпе детских глаз другое полотно. Оно похоже на предвесенний пейзаж. На нем даже как-будто висит паутина лени и восторга:
— Как хорошо…
Широкая поляна в синем осевшем снегу. Две проталинки, сугроб, два крыла перелесков и лес. На всем тишина и ожидание вечера.
Но стоит вглядеться, и проталинки оживут, втянут глядящего в свою глубину, и он проведет по лбу рукою: «Ведь, это глаза». Не успеет осмыслить этого, как перелески станут бровями, большой сугроб — носом, канавка с пойманными тенями — стиснутым мукой ртом. Кинется глазами назад, к проталинкам, и увидит: вокруг поляны не лес, — волосы, дорога в него пробор, а на проборе, обнявшись, пляшут черти, ангелы, херувимы, тринадцатое число на соломенных ногах, опостыленная колода карт, попы, ученые во фраках, евангелие, «Мировые загадки», «Женщина и социализм».
Все вместе, хороводом. А на опушке, у края пробора, сидят дети и сучковатыми палками бьют по лбу. Место, по которому ударяют, сине, кровянится. На сучках горят капельки.
Такой увидел Пимен Моренец свою жену — Фелицату Аркадьевну. Такой и нарисовал. Фелицатой