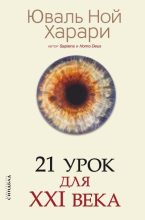- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (73) »
На золотом крыльце сидели
Повесть и рассказы молодой челябинской писательницы рассказывают о поколении, которое вступило в зрелость в 70-е годы и теперь с позиции уже собственного опыта осмысливает нравственные проблемы, встающие перед обществом. Его представителей отличает стремление к жизни по высокому счету, социальная активность, желание самим разобраться в сложностях взаимоотношений людей, четкость нравственных оценок.Тебя от ранней зари...
Ни за что нельзя туда возвращаться. И всегда соблазн туда съездить. Наверное, я поддамся в конце концов. Но этого нельзя. Я там родилась, а во втором классе меня увезли. Там жаркое лето, от зноя глохнешь. Там болотная речка Беляй под высоким берегом, и внизу крадется неслышно и жутко темная вода. Я однажды видела там русалку. Она зависла в воде над глубиной и, склонив голову, заплетала косу. Коса длинная, русалка доплетала ее под водой, под черной прозрачной водой, и подробно было видно, как она шевелила на весу ногами и стояла так без опоры в пустоте и не тонула. Раз ноги, значит, не русалка, но как можно так стоять? Русалка с ногами. Мне все кажется, что я там не дожила. Хочется вернуться и дожить. Но этого нельзя делать. Как она стояла в воде? Там с самого дна из мрака поднимался остролистый резун, там каждое лето кто-нибудь пропадал на невидимом дне, а она плела косу и висела без опоры. Стоячий Беляй: зовущая мертвая вода. Когда я ее увидела, я поняла: вот сейчас войду в воду, оторвусь от дна и поплыву. И действительно поплыла. Наверное, увидеть бы мне летящего человека — я бы взлетела. Ведь летала же я во сне, ведь откуда-то помнит душа атавизм полета. Осталось только увидеть, как это делается. Но люди забыли, и каждый не верит. Неужели не найдется никого, кто бы взял и полетел! Мы уехали из-за отца: надо было его увозить оттуда подальше. С этого времени для него все и кончилось, хотя он тогда еще не знал, что все кончится, он, наверное, думал: подумаешь! Думал, наверное, природе не надоест подкладывать ему на тарелку. А я и вовсе ничего тогда не думала. Меня укачивало на третьей полке общего вагона, отец зачем-то будил на стоянках в самой глубине сна и выводил на перрон. Разгуляешься, говорил он, ничего... Бесприютная тьма смыкалась позади огней, хотелось уснуть сначала — и я плакала, а он брал меня на руки, такую большую, и, не отрываясь от дальней тьмы, рассеянно говорил: «Ах, Ева, Ева». И снова со вздохом повторял: «Ах, Ева, Ева». — Холодно! — просилась я в вагон. А он все ждал, как будто кто-то его должен догнать и остановить, но никто не появлялся из темноты, поезд лязгал и сдвигался с места — и мы запрыгивали в вагон ехать дальше, в Полянино, к маминой сестре тете Вере. Он меня любил. Все кругом любили, я привыкла и думала: вот такой уж я подарок всем, я не знала еще, что любят всех детей подряд за их глупую радость жить. Думала, я особенная и самая главная, и все предназначено мне. Я выбирала и отвергала. И отвергнуто было много всего. Когда мы приехали в Полянино, навстречу нам бежала моя старшая двоюродная сестра Надя, и она была некрасивая: четырехугольное лицо и грубые черные глаза. Она схватила меня в охапку и радовалась, не стыдясь своих угловатых косящих глаз. Мне бы ее полюбить. Но я, как яд на острие стрелы, рассчитана была только на одного человека — и меня уже пустили. У меня в Полянине появилась подружка Люба, краснощекая девочка, битком набитая плотью, — я и ее не полюбила. Она не могла понять, чего я хочу, когда мы играли в тети Верином черемуховом садике. А я хотела вот чего: на картинке в «Крокодиле» был нарисован заяц-ревизор, он сидел под березой за письменным столом, его шляпа висела на ветке, на столе пресс-папье, возле стола росли грибы. Вот так бы жить без крыши и без стен, посреди черемухи, вешать пальто на сучок — по правде. Люба не умела хотеть того же, что я, она только моргала глазами и преданно смотрела на меня, потому что я приезжая, с неслыханным именем: Ева. Я не созналась ей, что это всего-навсего Евдокия. Приходили к Наде подруги, прогоняли нас с Любой из садика, а сами там шептались, с привизгом хохотали и оттягивали на груди кофточки, чтобы было попышнее.* * *
В Полянине жили хохлы, и они пели свои песни. Мы, оказалось, тоже были хохлы. У тети Веры собралась гулянка, я лежала на печи, подперев щеки кулаками, и слушала. На приступке печи лежала черная, истлевшая по краям старинная книга. Я ее открыла — там все было в твердых знаках и с неизвестными буквами, я прочитала одну строчку «Тебя от ранней зари ищу я», потом встретилось «Богъ», и книжку я отвергла. А хохлы пели незнакомую песню с совершенным печальным изгибом мелодии, голоса растекались на протоки и снова соединялись в одно русло.По-за лугом зэ-
лэнэньким, по-за лугом
зэлэнэньким
бра́ла вдо́ва лен дрибнэнький.
Вона бра́ла, вы-
бирала, вона бра́ла,
выбирала,
тонкий голос подавала.
Там Васылю си-
но косэ, там Васылю
сино косэ,
звонкий голос пэрэносэ.
Бросыв косу до
долоньки, бросып косу
до долоньки,
а сам пийшов до дивоньки.
Из кимна́ты вый-
шла маты, из кимна́ты
выйшла маты,
давай Васыля пытаты:
— Шо ж ты сы́дышь та й
дума́ешь, шо ж ты сы́дышь
та й дума́ешь,
чого нэ пьешь, иэ гуляешь?
— Дозволь, маты, вдо́-
ву браты, дозволь, маты,
вдо́ву браты,
тоди буду пыть, гуляты.
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (73) »