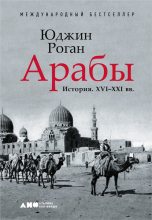- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (5) »
свете женщине. Молодые литераторы того времени занимались почти исключительно вопросами формы в искусстве и проблемами эротики. В музыке главенствовал Рихард Штраус[12], на сцене торжествовал яркий, броский, очень изощренный стиль Макса Рейнгардта[13]. А общепризнанный закон искусства гласил, что важны лишь средства изображения, но отнюдь не его предмет.
Я не испытывал ни малейших сомнений в правильности этих принципов. В те годы я написал весьма задиристый, претенциозный и очень манерный роман[14], изображавший богатую и пустую жизнь молодого повесы из хорошего общества. Еще я написал довольно задиристую драму[15] с такими действующими лицами, как художник эпохи Возрождения, который, ничтоже сумняшеся, распинает на кресте своего молодого ученика, чтобы с натуры написать распятие, и демоническая дама из общества Борджиа. Не то чтобы это была такая уж плохая пьеса, но с человеком, ее написавшим, у меня теперь нет решительно ничего общего. Мне просто непонятно, как он умудрился написать эту в общем-то далеко не бездарную вещь.
В те годы я написал еще множество рецензий — в этаком помпезно-боевом стиле, довольно злых. Кое-кому я тогда сильно насолил; я много знал, я был недурно подкован в эстетических учениях различных эпох и, если хотел, мог нанести весьма чувствительный удар. Сейчас, однако, мне не совсем ясно, почему я хотел наносить удары. Все, что было действительно плохо и заслуживало ударов, давно кануло в Лету, как кануло бы и без моего вмешательства. Остались от тех лет только испорченные отношения.
Затем я женился и уехал с женой за границу. Поначалу я жил припеваючи: у меня были деньги. А потом, как-то вдруг, денег не стало. Это случилось на Ривьере, в разгар сезона, и я сказал своей молодой, красивой и хорошо одетой жене: "Знаешь, у нас кончились деньги. Надо податься куда-нибудь, где жизнь дешевле. В бедекеровском справочнике написано, что за дешевизной надо ехать в Сардинию или в Калабрию". Мы погадали, подбросив монету, и подались в Калабрию. В Калабрии и в самом деле жизнь была очень дешева; она была великолепна и донельзя примитивна. Мы преодолевали пешком огромные расстояния, бродя с заплечными мешками от Тирренского моря к Ионическому и от Ионического к Тирренскому. Это было хорошее время. Подворья, где мы останавливались, не походили на гостиницы в обычном европейском понимании этого слова. Спали на кукурузной соломе. Мало кто умел читать и писать. Ели много фруктов, пили тяжелое, доброе вино. Еще пили козье молоко, разбавленное марсалой, накрошив в него черного хлеба. Ели баранину и козлятину, зажаренную на вертеле. Молодое мясо было необычайно вкусно, старое — отвратительно.
Затем мы отправились в Сицилию. Мы взбирались на Этну и обходили ее кругом, мы пешком исходили весь остров. То и дело я оказывался буквально без гроша в кармане, это было неприятно. Особенно запомнились несколько дней в Джирдженти[16], которые были даже весьма неприятны. Я ждал денег от одной немецкой газеты, а деньги не приходили. Мы жили в чердачной комнате, освещавшейся только крошечным слуховым окошком и потому сумрачной даже днем. В нее нужно было подниматься по узкой, темной и опасной винтовой лестнице. На чердаке держали голубей, весь пол был засыпай их пометом. У нас осталась только банка сардин да четыре булочки. Один день мы ничего не ели. На следующий день мы решили все-таки съесть эта сардины. В нашей темной комнате есть было противно. А на дворе было ветрено, холодно. Мы ушли далеко, к храмам. Кое-как укрывшись от ветра за упавшей колонной, мы съели все, что у нас было. Назавтра мы ничего не ели. На четвертый день пришли деньги.
Я мало работал в то время. Главное мое занятие состояло в том, что я забывал огромное множество сведений, полученных мною в годы учения. Кругом был вольный воздух, и гомеровская земля была совсем не такая, как Гомер, которого я некогда изучал.
Затем опять появились какие-то деньги, и мы поехали в Тунис. Мы жили в Хамамете, небольшом селении южнее Туниса, и готовились к путешествию через пустыню, от Тозера до Бискры, когда разразилась война. Меня арестовали и несколько дней продержали в тунисской гражданской тюрьме. Жене удалось с помощью одного официанта-мальтийца провести меня на итальянское судно. Я благополучно прибыл в Италию, которая тогда еще не вступила в войну.
Не успел я вернуться в Германию, как меня взяли в армию. Не могу пожаловаться на скверное обращение. Но было ужасно, повинуясь чьему-то приказу, выполнять какие-то нелепые обязанности, бесцельно простаивать большую часть дня во дворе казармы и есть из грязных мисок варево, которое не идет тебе впрок.
Написанное мною во время войны внешне, по форме, пожалуй еще походит на мои довоенные произведения. Но по существу, мне кажется, я уже не полемизировал по более или менее второстепенным вопросам, а смотрел в корень. Во всяком случае, мои пьесы то и дело запрещались, даже если на основании внешних примет их и не так-то легко было обвинить в революционности. Запрещена была пьеса "Уоррен Гастингс" и пьеса "Еврей Зюсс"; конечно, была запрещена моя переработка аристофановского "Мира" и, конечно же, пьеса "Военнопленные". Если в том, что я тогда писал, пробивалась какая-то общая идея, то это постановка проблемы "действие и бездействие", "власть и покорность", "Азия и Европа", "Будда и Ницше". Проблемы, явно заслонявшей более важную проблему социального переустройства мира. И все-таки мне приятно знать, что первое революционное стихотворение, напечатанное в те времена в Германии (октябрь 1914 г., журнал "Шаубюне"), написано мною.
Политической журналистикой я никогда не занимался. Когда началась революция, я жил в Мюнхене; многих руководителей баварской революции Эйснера, Толлера, Густава Ландауэра[17], - и некоторых руководителей реакции мне привелось наблюдать с весьма близкого расстояния. Я написал тогда "драматический роман", положив в основу его судьбу писателя, который сначала руководит революцией, но затем возвращается к своему писательскому труду, так как революция ему надоедает. Эта книга, прискорбно подтвержденная действительностью вплоть до отдельных подробностей, вызвавшая много подражаний и представляющая собой кредо писателя пассивного склада, исходит из того факта, что у деятеля никогда не бывает совести, что обладает совестью только созерцатель.
В Германии началась эпоха, все больше и больше вытеснявшая эротику на задний план литературы. Если где-нибудь этот вопрос и оказывался в центре внимания, то рассматривался он грубо-материалистически. И в жизни, и в поэтическом искусстве главное место занимали вопросы социологии,
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (5) »




![Бестселлер - Донато Карризи - Сборник "Мила Васкес" [3 книги] - читать в Литвек](/tcover/81/t457381.jpg)
![Бестселлер - Яна Вагнер - Сборник "Вонгозеро" [2 книги] - читать в Литвек](/tcover/45/t457645.jpg)