- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (6) »
Владимир Александрович Соллогуб Неоконченные повести[1]
Быть так! спасибо и за то.Кто знает Ивана Ивановича или, лучше, кто не знает Ивана Ивановича? Его, верно, все видели и привыкли видеть и, вероятно, никому не пришло в голову спросить, кто он такой. Таких людей много. Какое кому дело до человека без связей и без денег? В обществах Иван Иванович, разумеется, не бывает, но на Невском проспекте он гуляет аккуратно от двух до четырех часов, какая бы ни была погода. В театре и в концертах он также лицо неизбежное, отчего он и пользуется в мнении многих не весьма лестною известностью, хотя в самом деле он только страстный любитель музыки. Даже некоторые молодые люди утверждают решительно, что он игрок и притом самый опасный шулер, выжидающий добычи, тогда как бедный мой Иван Иванович отроду не брал и карт в руки. Иван Иванович одет всегда литератором, то есть очень дурно, гуляет в енотовой шубе, носит широкие черные фраки и длинные белые жилеты, и, как видно, мало заботится о своем наружном украшении. Вообще он слывет человеком опасным, потому что хотя ничего не имеет, но ничего не ищет и не просит. Те же, которые знают его коротко, любят его от всей души, потому что он в самом деле просто добрый человек. Я с ним иногда встречаюсь, и люблю слушать резкие его суждения о произведениях нашей литературы. Суждений этих я не повторю здесь, чтоб никого не обидеть, но в них, как отгадать не трудно, мало утешительного. Вообще разговоры наши касаются до жалкого состояния у нас искусства, которое не вкоренилось еще в жизнь народную, не составляет необходимой потребности, а большею частью служит для изворотов жалким барышникам; тогда как истинное дарование, изнывая под бременем ненасытного самолюбия, иногда погибает в тени или спивается с круга. Иван Иванович судит вообще резко и решительно; со всем тем невозможно назвать его положительным человеком; напротив, когда нет свидетелей и разговор касается до чувства, Иван Иванович изумляет меня тонким разложением малейших сердечных оттенков, и тогда этот человек, по-видимому бездушный, совершенно преобразовывается: речь его становится свободнее, душа как будто выглядывает из сверкающих глаз, и нетрудно догадаться тогда, глядя на него, что под этой бесчувственной корой бьется сердце, способное к самым глубоким впечатлениям. Но что заставило это сердце сжаться и съежиться под личиной равнодушия? что заставило бедного холостяка вести такую однообразную жизнь и пренебречь глупыми о нем толками? — вот что хотелось мне узнать. Недавно обедали мы вместе у madame Joseph. Madame Joseph отлично кормит своих приятелей. После обеда мы оба закурили сигарки, и, развалившись на диване, начали разговаривать о том, как молодость утрачивается безвозвратно, оставляя нам лишь одно раскаяние, что мы не умели ею воспользоваться. — Эта песня давно поется, — сказал Иван Иванович, — и никто от нее не поумнел. И я, как все… — Кстати, — прервал я, — мне давно хотелось расспросить вас о вашем былом. Знаете ли, теперь, пока мы курим, расскажите-ка мне повесть вашей жизни.Баратынский[2]
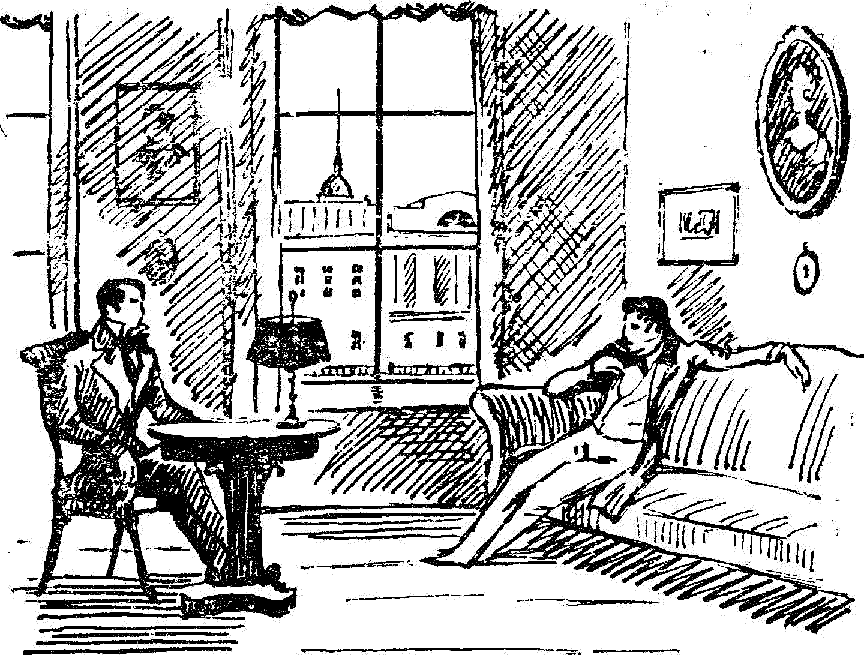
Иван Иванович немного призадумался. — Жизнь моя, — отвечал он печально, — не может назваться повестью, а разве собранием отдельных не оконченных повестей. — Как неоконченных?.. — Именно неоконченных. Не знаю, много ли людей могут похвалиться тем, что светлые случаи их жизни достигли всего своего блеска и потом уже мало-помалу начали скрываться в тумане, бросая еще изредка яркие отблески? Со мною было иначе. Романы мои только заманивали мое сердце и потом вдруг прерывались при самой завязке. — Отчего же так? — спросил я. — Отчего? Сам не знаю; от случая, от игры обстоятельств. То светское приличие, то нежданная разлука, то собственная оплошность, то смерть все уничтожающая отдаляли меня навек от светлой цели моих желаний. Иногда одно слово могло бы мне дать блаженство, но слово это, уже готовое на устах, не выговаривалось, и осеняющее уже меня счастие отлетало навеки. Иногда самые ничтожные случаи, забытый визит, короткая поездка, минутная простуда, вздорный поклон, пустой разговор, взгляд один отдаляли жизнь мою навсегда от радостно принятого направления. Вы скажете, что я сам в том виноват. Может быть; но зато я жестоко был наказан, потому что каждая порванная струна моего сердца болезненно отдавалась в целом существе моем; словом, оно, может быть, глупо, только и грустно тоже. Все повести мои остались без конца. — Как, неужели ничего от них не сохранилось? — Сохранилось какое-то странное чувство, неопределенное сознание утраченного счастия, сознание горестное, но и сладкое в то же время, похожее на воспоминание о шутливом и веселом друге над его могилой. — Не понимаю, — сказал я вполголоса, хотя, по странному сочувствию с моим собеседником, какая-то невольная тоска начала сжимать мое сердце, — не понимаю, Иван Иванович. — Как не понимаете? Припомните вашу молодость, тогда не трудно вам будет понять. — Всего будет лучше, Иван Иваныч, если вы расскажете мне повесть… нет, я хотел сказать, начало какой-нибудь повести из вашей жизни. — Извольте… Только с чего начать? — Начните сначала. — Ну, так я начну с моей студентской жизни. Я немного поморщился. Иван Иванович улыбнулся. — Вам надоели студентские истории, — заметил он. — Будьте покойны: я не намерен обременять вас описанием немецкого студенчества, а только, по желанию вашему, разверну перед вами первую страницу теперь уже оконченной книги моего сердца. — Я учился в Гейдельберге[3]. В одном доме со мной жили еще двое русских молодых людей, два брата из Харькова. Мы жили дружно, сидели рядом на лекциях и проклинали вместе картофельный суп и черствые котлеты, которыми казнил нас каждый день ничем не умолимый трактирщик. Старшего брата звали Федором. Он был большой оригинал. Играл целый день на скрипке, терпеть не мог надевать калош и три раза в неделю аккуратно бегал на почту узнавать, нет ли для него писем, хотя писем, сказать правду, он не получал никогда. Такая уж у него была привычка. Впрочем, он был малый тихий и смирный. Брат его, Виктор, имел мало с ним сходства. Шум и разгулье были его стихией. Помучить ли толстого ремесленника, ошикать ли профессора, разбить ли где окна, прокричать ли виват, затеять ли пирушку, рубиться ли, напиться ли, танцевать ли в клубе — Виктор везде был первый; всегда готов, всегда весел. Бывало, голос его раздается во всю площадь и старые студенты
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (6) »