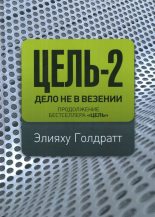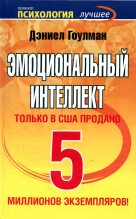период с 1869 по 1894 год потребление индийского чая подскочило в десять раз, а китайского, наоборот, — снизилось вчетверо.
Между тем рядом с Индией уже осваивалась новая богатейшая кладовая зеленого листа: с середины 70-х годов началось бурное развитие чаеводства на Цейлоне — острове с дивной природой, который климатологи не без основания называли «земным раем». Но прописке чайной культуры в этих местах способствовал не только благодатный климат и заразительный пример соседней Индии, но и страшная эпидемия грибной болезни, погубившая местные кофейные рощи. К тому же чай можно было разводить не только на месте погибших кофейных плантаций, но и на более значительной высоте над уровнем моря. Зеленая река, хлынувшая с Цейлона, к концу столетия еще более потеснила на мировом рынке китайский чай.
Наконец во весь голос «заговорил» Малайский архипелаг, где к массовому разведению чая голландская Ост-Индская компания приступила еще в начале прошлого века. В 1824 году китайскими и японскими семенами начали засевать Яву, но когда загремела слава Ассама, островитяне переориентировались на индийские сорта. Через полвека культура была внедрена и на Суматре.
Переселившись на юг, чайное растение оказалось в более благоприятных климатических условиях. Если в китайских и японских субтропиках уборочная страда ограничивалась вегетационным летним периодом, то в Индии, на Цейлоне и островах Малайского архипелага сбор листьев можно было проводить практически круглый год. В новых чаепроизводящих районах лист собирался с больших плантаций, в то время как в Китае и Японии чаеводство находилось в руках мелких производителей. Уже к 1904 году по общим объемам вывозимого чая Китай обогнала Индия, спустя четыре года — Ява, а еще через два года — Цейлон.
А о себе заявляли все новые и новые производители. Закладывались площади в Индокитае — в южных низовьях Тонкина, горах Аннама и на полуострове Малакка. Чай «перешагнул» через океан на южный берег Черного континента и наконец достиг Южной Америки. Древнейший напиток Востока начал покорять мир…
САМОВАР ДЛЯ «СУШЕНЫХ ЛИСТЬЕВ»
Еще до установления торговых отношений России с Китаем чай проникал из Монголии в Среднюю Азию, на Урал и в Нерчинский округ. По Кяхтинскому трактату, заключенному в 1727 году, были учреждены два пункта русско-китайского пограничного товарообмена — на речках Кяхта и Аргунь. Первый из них стал основным по торговле чаем и сыграл немалую роль в установлении политических и экономических связей с Китаем. Восточный товар по караванному чайному тракту Ханькоу-Урга-Кяхта, через Гоби, стали доставлять специальные купеческие гильдии. Родились первые русские чайные компании, наладившие собственный транспорт через всю Сибирь. Появились и знаменитые русские самовары.
Но чаю на пути в российский «дом» предстояло преодолеть не только длинные версты, но и частокол суеверий и предрассудков. Сектанты-раскольники подвергали его анафеме, объявляя таким же греховным зельем, как и табак. В мещанской среде ему приписывали самые нелепые свойства. И все же напиток волной «разливался» по всей стране. Колыбелью массового чаепития стала Москва. Здесь же сформировался и самый крупный чайный рынок.
В начале XX века Россия окончательно заявила себя «чайным государством». На Нижегородской ярмарке — центре внутренней торговли — для чайной было отведено особое каменное здание. Распространению чаепития способствовали многочисленные трактиры, а также постоялые дворы и почтовые станции, где в зимнюю стужу проезжий люд согревался горячим напитком. Отсюда, видимо, и пошло выражение: «С дороги чайку напиться». Ввели чайное довольствие и в армии. На него в основном ставили войска, находящиеся в трудных климатических условиях. Вводили его и там, где появлялась холера, — до прекращения эпидемии.
В отечественных исследованиях по истории чая авторы не раз отмечали его «государственное значение». Чай помог установить внешние отношения России с Китаем, а значит, сделал доступными его фарфоровые изделия, шелковые и бумажные ткани. В свою очередь, у «Поднебесной империи» появилось уважение к «Северному колоссу». За чаеторговцами, по проторенной ими дороге, шли научные экспедиции. Вот и выходит, что чайная торговля послужила и своеобразным проводником мировой науки.
Велико было также и экономическое значение чая. Более сотни тысяч человек по сибирскому тракту (а это тысячи верст!) кормились от перевозки «сушеных листьев». В промышленности он вызвал к жизни самоварное производство, дал стимул для расширения суконного дела (для обмена с Китаем), а также посудного, сахарного и булочного. Чай разнообразил скудную пищу крестьянского населения, был подмогой на деревенской страде, зимнем извозе и фабричной работе, выручал во время многочисленных постов.
Чай не только усиливал трудовую энергию, но и поднимал настроение, «смягчал нравы», способствовал общительности.
За пятьдесят лет, прошедших после реформы 1861 года, потребление чая в стране на душу населения возросло более чем в два с половиной раза. В начале нашего века Россия занимала второе, после Англии, место в мире среди главных импортеров чая, оставив позади Соединенные Штаты Америки. В европейской части он пришелся к столу северянам Олонецкой губернии, жителям промышленных городов Ярославщины. Особое значение он имел в рационе татарского населения. Зеленый чай почти целиком оседал в Туркестане, кирпичный — в Казахстане, Киргизии, на юге Западной Сибири и на Урале. А потребление этого вида чая в Восточной Сибири превысило все мировые рекорды — здесь в среднем в год на жителя приходилось до одиннадцати фунтов (1 русский торговый фунт — 0,409 килограмма. — Автор), Много пили чая казаки Амурской области, крестьяне Приморья и Восточного Забайкалья, но больше всех — до тридцати фунтов в год — буряты, у которых, как и у соседей — монголов, зеленый чай шел в похлебку.
И все же для подавляющего большинства крестьян России чай оставался предметом роскоши. Высокая цена позволяла пить его лишь в редких случаях — не зря, видно, появилось выражение «чайком побаловаться». Да и другое, не менее известное изречение «дать на чай» родилось именно в ту пору, когда на чай у многих, в прямом смысле, не хватало. А между тем общая сумма государственного дохода от продажи чая, включая транспортные тарифы, превысила в последний год царствования династии Романовых девяносто миллионов рублей.
ПЕРВЫЕ ВСХОДЫ И СБОРЫ
Первые попытки «прописать» чайный куст в России стали предприниматься еще в начале минувшего