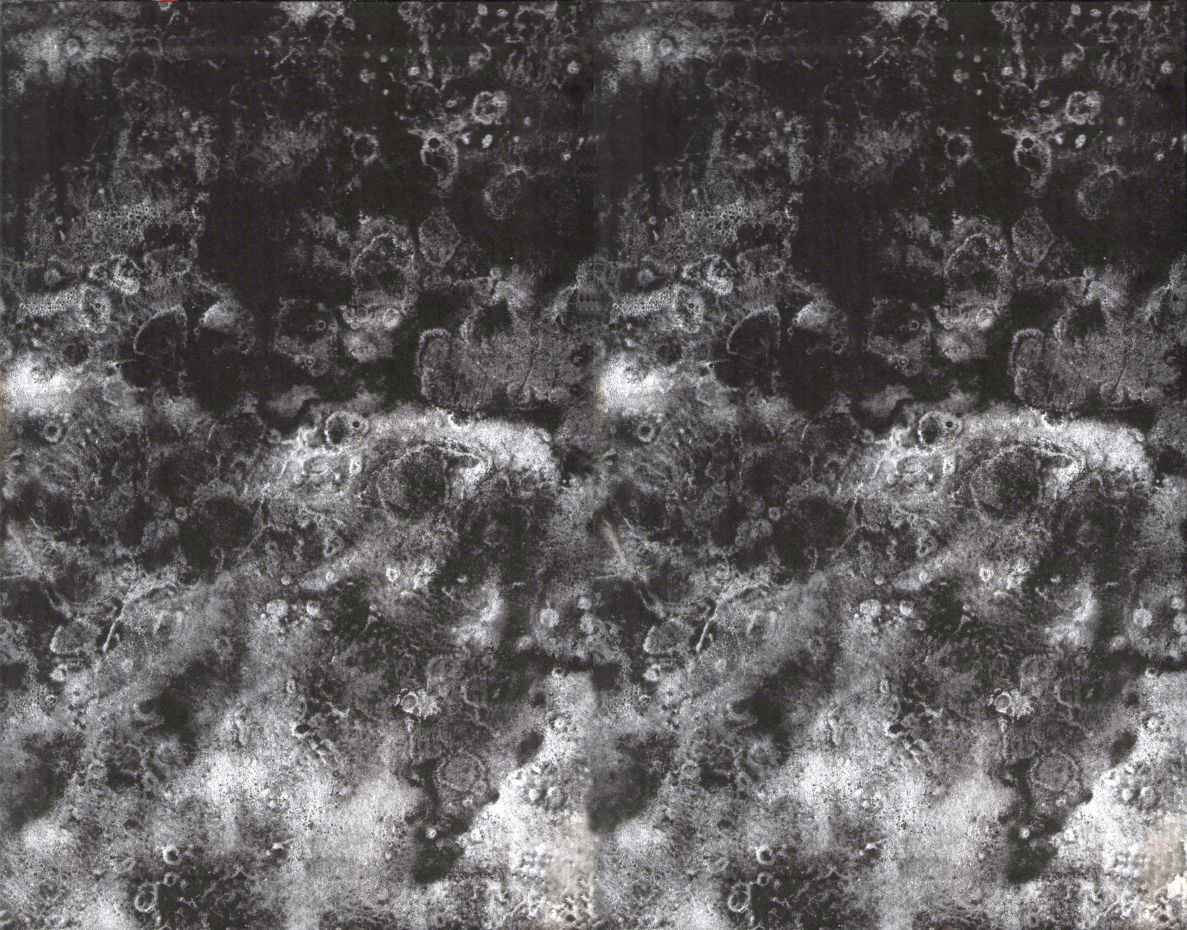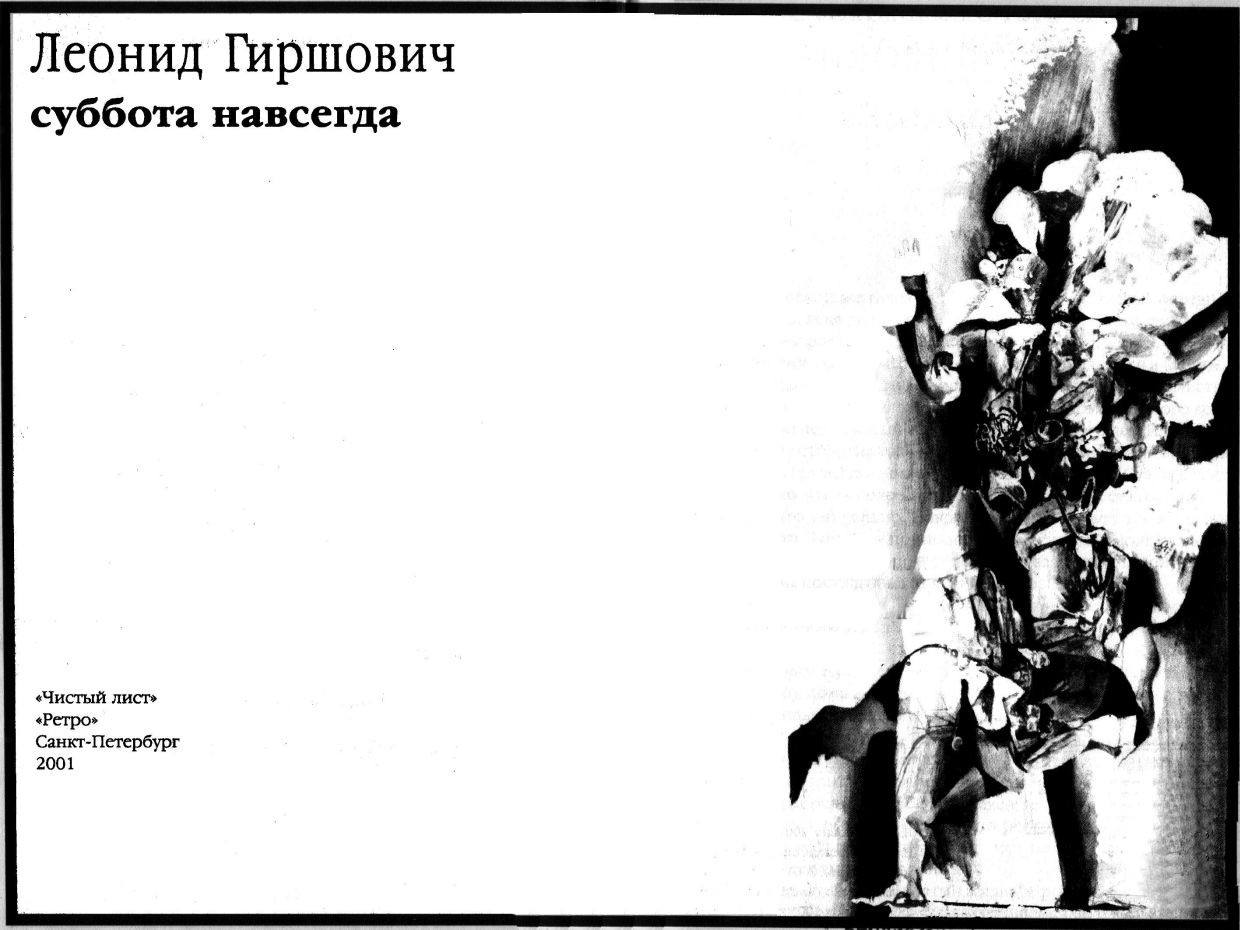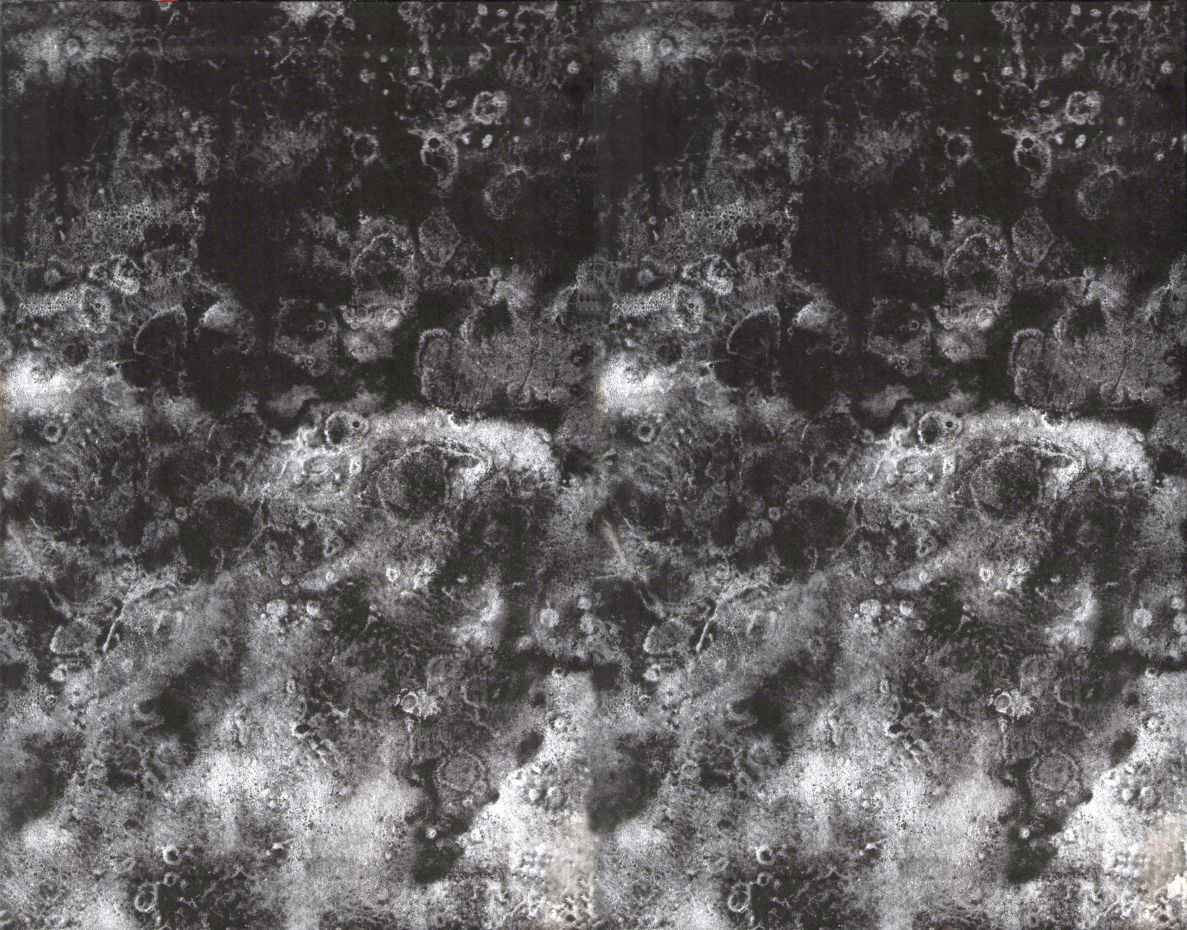
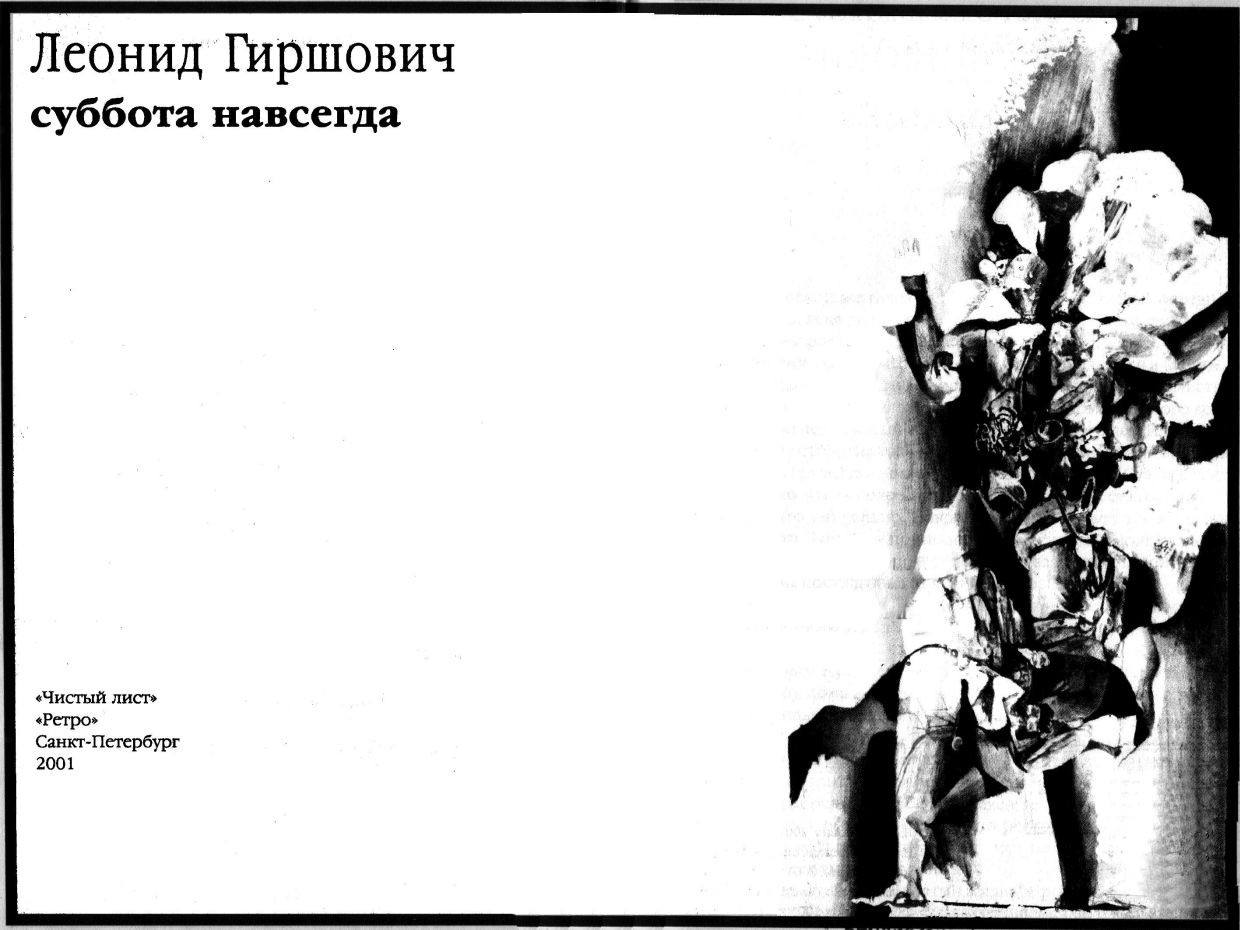
С ВЫХОДЦАМИ С ТОГО СВЕТА
(пролог на земле)
Wo die schönen Trompeten blasen…
…Из морской же пены вышли на сушу обитатели последней. Еще в начале века для гимназистов это была простая гамма, морская пена — простая гамма. Разные «линнеи», «ламарки», схемы по ним и прочие наглядные пособия — все это пылилось в кабинете естествознания в шкафу. Нелишне заметить, что, когда эти строки выйдут в свет, «начало века» станет «началом прошлого века». Прошло сто лет, и юный град… то есть снова сто лет. И ни-че-го. За истекшее столетие так ничего нового сказано и не было. Содеяно — о да! Но мы понимаем только по-хорошему (слова). Потому словесно мы — современники Чехова, Андреева, Бунина. Думаю, что это уникально. Навряд ли те могли вот так же счесть своею эпоху Павла I — припорошенные снежком солдатские косицы в ряд… Не далее как вчера, прогуливаясь по перрону в Сестрорецке, мы обсуждали эти курносые косицы с Бенуа.
Начало столетия, вскоре уже будем говорить прошлого (как скоро ночь минула!): те же самые фасады домов вдоль улиц, которыми и поныне ходим мы, будь то Roma, Paris, СПб или Ferdinand-Wallbrecht-Str. Ну, о’кей, все было понарядней (это касается не только СПб), дома — помоложе, в них еще не сменились три поколения жильцов. Но сами-то фасады были те же, и лишь, в отличие от нынешнего дня, заливал их оригинальный солнечный свет — оригинальный, коль скоро в серебряный русский век французские импрессионисты все до единого еще работали. Русский же серебряный clair de lune между тем лежал на дорожках Булонского леса, где — на островке, в ресторане — мне предстоял ужин с мадемуазель де Стермарья… нет, не мне (но с Бенуа в Сестрорецке на станции говорил я).
Преподаватель же зоологии жидкобород, рыжеволос, тусклоглаз. Пуговки тусклых глаз и на вытершемся до блеска мундире с засаленным воротом. Зоолог знает, что никакого бога нет, что он словно уснет тяжелым сном, без сновидений. Девицей жена работала в «Лионском кредите», три года жила в Париже. Отрочество дочерей, фотография одной из которых — а именно левой — чудом уцелела. Не верь, потомок, ни чистому фотогеничному лицу, ни серьезному взгляду, а верь рыжеволосому мальчику Пете — в тайно-безумную любовь отца к этому позднему ребенку, который теоретически может быть среди живых и сегодня, **марта 199* года, что, конечно, менее чем маловероятно.
Большой картон, по которому водила учительская указка, изображал, как в прибрежной волне эволюционировали виды: на рис. a) мы видим какую-то рыбешку, на рисунке b) ее плавники обретают некоторое, с трудом еще различимое, подобие лап. Примерно так Луи-Филипп под карандашом Домье превращается в грушу: на парусах зазеленели виноградные лозы с тяжелыми гроздьями, темно-зеленый плющ обвил мачту, всюду появились прекрасные плоды, уключины весел обвили гирлянды цветов. Когда увидали все это разбойники, они стали молить мудрого кормчего править скорее к берегу. Мы же на рис. z) имеем законченного диплодока: сей хвостатый, уверенно прогуливаясь по пляжу, уже пристально всматривается в глубь материка. И хотя жидкобородый в поношенном вицмундире не забывает упомянуть, что для превращения одного рисунка в другой потребовались миллионы лет, кто его слушает… это само собой, в гармошку миллионы лет и подложить их стопкою под себя, чтоб не сидеть прямо на каменных ступеньках. Глупый лоб тоже, собираясь в гармошку, становится низеньким.
На популярном плакатике, выполненном по принципу тех же Овидиевых «Метаморфоз» или превращений Луи-Филиппа в грушу, цепочка под началом homo sapiens’а направляется куда-то с бодрым видом (знать бы куда). В затылок homo sapiens’у глядит довольный кроманьонец, ему на пятки наступает неандерталец и т. д. — семеновец, преображенец — кончая скрюченным приматом. Всего семь фигур, наглядно демонстрирующих, как по-свински мы обошлись с обезьяной: само слово «примат» указывает, кому по праву надлежит первенствовать в этой цепочке славных, когорте смелых, веренице счастливых… покорителей космоса, поскольку рождены они для полета, как для счастья, в том и состоящего, чтоб сказку сделать былью.
На плакатике, между прочим (это к тому, чтоб сказку сделать былью), изменен порядок следования фигур с точностью до наоборот — создателю плакатика, homo sapiens’у, был угоден такой анахронизм. Что такое время, если не средство созидать пространство в некой священной последовательности? Нарушить эту последовательность, подчинить ее своей воле (сказку сделать былью) — конечная цель homo sapiens’a (по достижении ее он уже не homo).
Автор упомянутого плакатика изобразил себя безликим, «беспаспортным» — как бы спрессовал в себе гирлянду предков. 300 метров — не расстояние, каких-то два шага. А те же 300 метров вниз? Под тобою как на ладони Париж, а в Санкт-Петербурге это взгляд с высоты трех Исакиев. И так же точно 300 человек. Как будто бы немного: все, можно сказать, наперечет, каждого знаешь не просто в лицо, но и по имени. А если эти 300 — твои праотцы, триста поколений? Представить себе их — что заглянуть в колодец, прорытый до магмы. Некий волшебник, плененный восточным деспотом, ради спасения своей жизни явил тому всех его предков и всех его потомков — от сотворения мира и до скончания времен. Второе подозрительно. Облик будущего элементарно страшен. Вий. Поэтому, как уговаривают себя, что посмертных чудищ — всяких там харь, упырей и прочей замогильной нежити — нет, сказки, так же и стоят на том, что будущего нет, в смысле, еще нет: может быть и таким, и таким, и таким, все зависит от тебя, свободного волеизъявителя. Дескать, это прошлое необратимо — не то б генетики сошли с ума. А кто говорит, что будущее столь же неотвратимо, сколь необратимо прошлое, тот пресмыкается во прахе рабства. Явленные деспоту все его потомки до самого дня светопреставления, как будто они уже втайне обретаются где-то, в каком-то виде, — оптический обман, минутное отражение минувшего. (Говорите, говорите… пресмыкающийся во прахе рабства. Пресмыкающийся во прахе рабства — это змей, сказавший: нет, не умрете, а станете как боги.)
Если будущее не предначертано, иначе говоря, его еще нет, то и мир всегда таков, каким мы его мыслим в настоящий момент. Истины настоящего суть истины в последней инстанции, обжаловать их негде, не «еще негде», а именно негде (даром, что они всегда бывали обжалованы — это же в прошлом «всегда», будущее-то нам не предначертано). Так что истина «Центра космических исследований» есть истина окончательная. А вот во втором веке нашей эры мироздание