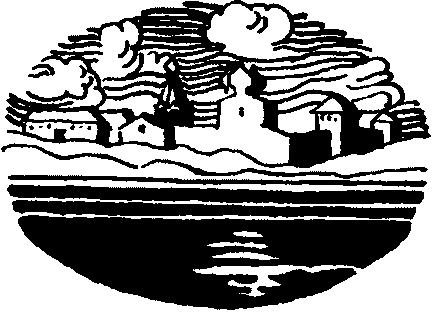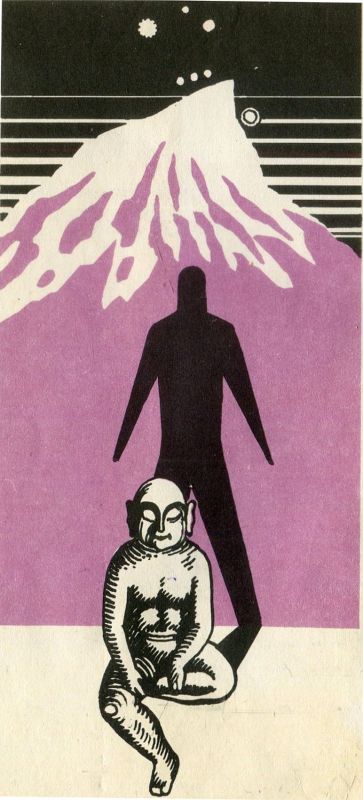
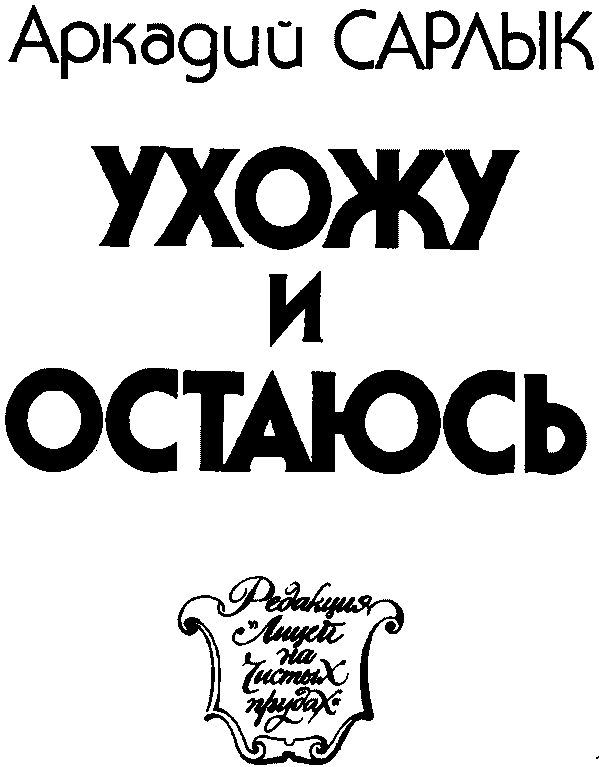 Аркадий Самуилович Сарлык
УХОЖУ И ОСТАЮСЬ
Аркадий Самуилович Сарлык
УХОЖУ И ОСТАЮСЬ
ПОВЕСТЬ
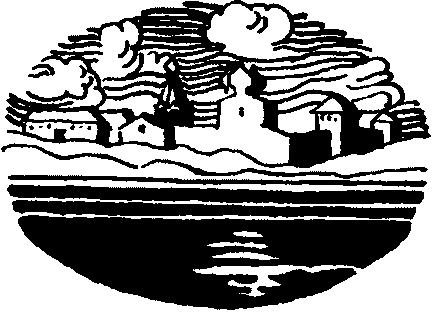
ПИСЬМО С ТОГО СВЕТА
Ужасной банальностью выглядит эта истина: человек — создание удивительнейшее! И, высказанная вообще, без конкретного адресата, она не несет никакой энергии — так, выспренний трюизм какой-то.
Но, когда человек, утомивший тебя ежедневностью, вдруг выкинет этакий фортель и ты его увидишь словно впервые, эти три слова сами произнесутся, наполнясь живым полнокровным смыслом.
Моя бабушка (увы, теперь уже —
была) — создание удивительнейшее. Я с ней познакомился в двухлетнем возрасте и за тридцать лет, истекших с тех пор, так привык к ней и к ее причудам, что разучился удивляться. Но то, что случилось недавно и о чем я хочу рассказать, меня поразило.
* * *
А случилось, сгорел бабушкин двухэтажный дом — дом моего детства.
До пожара это было крепкое сооружение мышиного цвета с восемью подслеповатыми окнами в два ряда по фронту, напоминающими бойницы, так как толщина капитальной кладки была почти метр. Последним обстоятельством бабушка чрезвычайно гордилась, чему научила и меня.
— Вот как раньше строили, — хвалилась она. — Пушкой не пробьешь.
— Смотря какой! — все же возражал я, шести- или семилетний, преодолевая восхищение. — Ядерной, может, и не пробьешь, а «катюша» запросто проломит.
— Ну разве что «катюша».
В те годы слово «катюша» еще действовало магически, и бабушка, ужасная спорщица, здесь уступала.
Но зато Дверь она никому не давала в обиду, веря в нее беззаветно. Железная, величиной с воротину, с огромными заклепками, с двумя крюками-кочергами, она запиралась раз в сутки, на ночь. Это был сложный ритуал, недоступный для непосвященных. Более чем за век она изрядно опустилась, поэтому ее под крюковой набат, рывками, подсаживая сковородником, волокли по борозде в дубовых половицах, потом я изо всех сил тянул за нижний крюк вверх, а бабушка толкала за верхний вниз — и Дверь, чуть перекосившись, с грохотом запиралась. Затем мы с час отходили, разбирая наши действия, как генералы в Филях, правда, за медным самоваром, который периодически прямо на столе начинал тихонько скулить.
Для меня навсегда осталось загадкой, как бабушка управлялась с Дверью, будучи одна. Ведь в момент пожара ей было восемьдесят восемь лет. Воистину — «вот как раньше строили»!
Уж так получилось, что бабушка забрала меня к себе насовсем в день, когда мне исполнилось четыре года, и мы не разлучались двенадцать лет. И, сколько я помню, нам с ней не бывало скучно. Можно даже сказать, что все эти годы прошли, как одна большая, прерывавшаяся лишь на ночь, беседа.
Утро начиналось с того, что мы подробно рассказывали друг другу наши сны и толковали их по примитивному соннику, в котором печь предвещала печаль, лошадь — ложь, а гроб обещал удивительные известия.
Днем мы занимались тысячью еще более важных дел (о некоторых я расскажу ниже).
По вечерам, перед сном, бабушка с похвальной неизменностью (особенно зимой, истопив печь) выводила меня «на волю», погулять. Я поразительно отчетливо помню одну такую прогулку — все другие постепенно стерлись, выпали из памяти.
Мне около пяти лет. Я сижу в плетеных санках-корзине на полозьях, завернутый в косматое овчинное одеяло (которое я тогда и долго еще потом храбро считал медвежьей шкурой). Сзади меня громоздится морозная, тусклая, бело-черная темнота, а впереди, перед школой, горит фонарь — единственный на нашей улочке и оттого ослепительно яркий.
Я воюю с ним своим дыханием. Мне кажется, что еще немного, и белый плотный раструб живого пара потеснит, осилит безжизненный световой конус. Но вместо этого на меня надвигаются радужные кольца, одно в одном — множество колец, и чем сильнее и упорнее я дышу, тем они плотнее и ближе ко мне. Я догадываюсь, что проиграл, но еще не сдаюсь.
Бабушка с оглушительным, громовым хрупом приближается, медленно, даже зловеще переставляет по рассыпчатому бликующему снегу огромные не раз подшитые серые валенки, склоняется надо мной. Бечевка, за которую она тянет санки, провисает до самого снега.
Я опасаюсь, что веревка зацепится за полоз, и санки вполне могут опрокинуться — так уже было однажды. И потом, зачем-то долго всматриваясь в меня, бабушка часто и, как мне кажется, беспорядочно дышит своими клубами, мешая моим духовым упражнениям. Я злюсь.
— Ты чего фукаешь? Не обморозился? — спрашивает она.
— Ну бабуся, ну поехали! — ворчу я на нее. Бабушка распрямляется.
— Куда это поехали? Я тебе что, бурлачка или лошадь какая, что ли? Ведь ты, милый мой, уже большой кобыляк…
И тут, не знаю откуда, на совершенно пустынной январской улице возникает крохотная Стеша — наша уличная сторожиха. По ночам она ходила под окнами с колотушкой — плоским ящичком на ручке и шариком на шнурке — и за мизерную плату мешала людям спать. В этой работе была, безусловно, какая-то тайна, но она вскоре умерла, как и сама работа, вместе со Стешей, а колотушка почему-то оказалась у нас. Кажется, бабушке предлагали занять вакансию, да она отказалась — забоялась оставлять меня на ночь одного.
Услышав нас, Стеша решила проявить старушечью солидарность:
— Как я ни погляжу, все ты его таскаешь. А когда же он тебя начнет? Слышь, сынок, скоро бабку перерастешь, а все на ней ездишь! А ну, вылазь, сажай ее и вези домой, ишь!..
Предложение было таким неожиданным и очевидным, что я стал подниматься.
— Да сиди, сиди, — качнулась ко мне бабушка. — Она же смеется! Вот как перерастет меня, так и посадит, да, Адик?
Я молча кивнул (терпеть не мог, когда меня так называли).
— Знаем, как посадит, Федосья, — вздохнула Стеша. — Не катают они нас теперь. Не успеет вырасти, только его и видели…
Тут я и сделал свое самонадеянное заявление.
— Я бабусю никогда не брошу, — убежденно говорю я им обеим.
— Ну и молодец! Вот и хорошо, — сразу добреет Стеша и, не прощаясь, уходит по краю светового пятна в темноту…
Нам с бабушкой было интересно все, и мы по очереди задавали друг другу вопросы и по мере возможности находили на них ответы. Поначалу бабушка знала больше, чем я, и мне отводилась роль благодарного слушателя, с которой я справлялся, кажется, неплохо. Во всяком случае, если она теряла очки, в то время как они находились у нее на лбу или даже на носу, мы, не прерывая разговора, часами мотались по бесконечной кольцевой анфиладе из комнат,
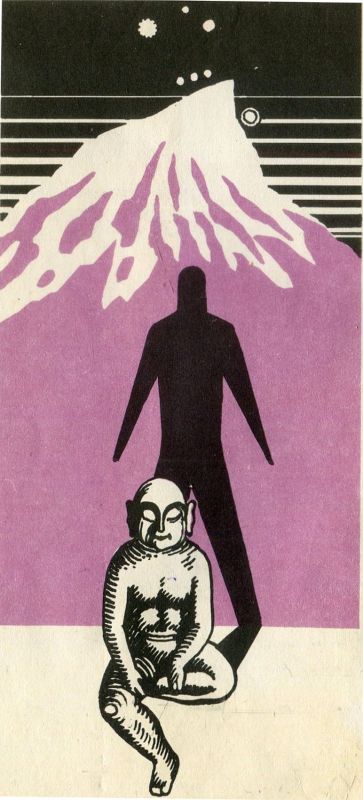
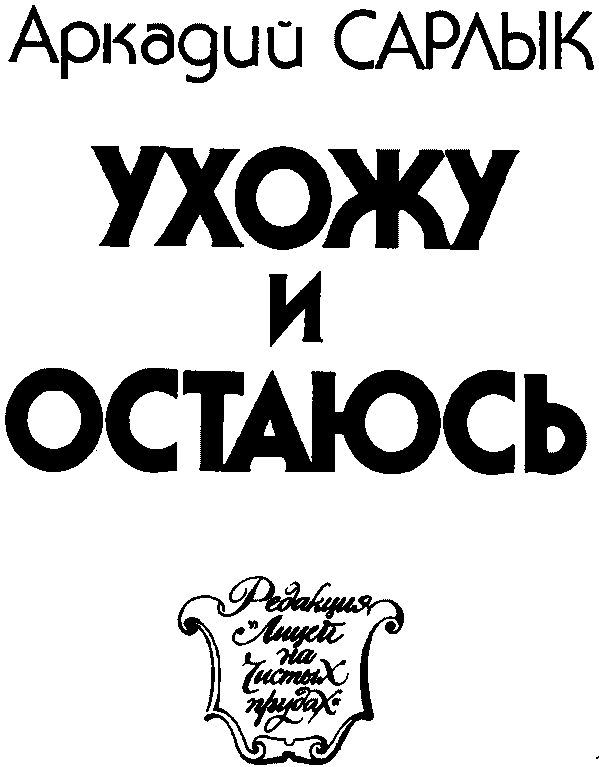 Аркадий Самуилович Сарлык
УХОЖУ И ОСТАЮСЬ
Аркадий Самуилович Сарлык
УХОЖУ И ОСТАЮСЬ