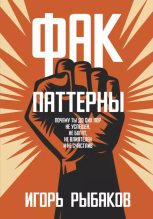- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (338) »
как кошка: «Хорошо-то как, Ваня! Правда, хорошо?» Винт молча шел, посматривал на небо и думал о хорошей жизни, которая никогда не наступит.
Пробудило его пустое гулкое жужжание в мутной тишине. Винт резко проснулся. Сердце билось испуганно, быстро. Над ним стоял Дювалье с лысенькой улыбкой и протягивал механическую заводную бритву.
— Побрейся, надень рубашку и на третий гонг приходи.
Винт сел и закашлялся: грудь ломило тупой болью, на глазах от натуги выступали слезы.
— Мой чемодан, — проговорил он сквозь кашель.
Дювалье показал в угол комнаты. Там были свалены вещи Винта: брюки, сандалии, рубашка, майка, все грязное, там же на чемодане, как на могильном холмике погребенного прошлого, лежала милицейская фуражка.
Винт поводил бритвой по щекам, бритва жужжала. Он оделся в выданное ему, порылся в чемодане, нашел початую бутылку водки, сунул в карман, вышел в коридор. Дверь большой комнаты была открыта, там чувствовались люди. Винт заглянул: слева от двери в углу от пола поднимался белый изразцовый камин, прямо у окна в гамаке возлежал Гаутама, лицо его было равнодушно-радостно, по розовым аскетически щекам сбегал на подбородок светлый пушок. За столом сидела Принцесса, торжественно-милая, рядом с ней быстрый Дювалье и скалоподобный Арбуз.
Прозвучал протяжный томительный гонг — это Гаутама дернул за веревку у окна, и молоток ударил висящий у камина таз. Винт вошел, робко приблизился к столу, поставил бутылку. Гаутама, далеко потянувшись, как безразмерная змея, взял пальцами бутылку за горлышко, так же далеко вытянулся к открытому окну и опустил бутылку вниз. Послышался гулкий хлопок.
— Ты чо? — сморщился от обиды Винт. — Ты чо, курва?
Арбуз дернул его за руку, и Винт плюхнулся на стул.
— Здесь не курят, не пьют алкоголя, не ругаются нехорошими словами, — лениво произнес Арбуз.
— Хочу домой, — жалобно попросился Винт, и все засмеялись.
— Где твой дом? — спросил Дювалье. — Пансионат бывших уголовников? Санаторий партийных активистов? Твой дом — здесь, с нами. Только здесь ты найдешь свое подлинное счастье. Если ты знаешь, что это такое и если ты его достоин.
Винт наблюдал за руками Принцессы. Белые, тонкие, нежные, и сама она была спокойна, даже равнодушна ко всему, ничего не видела вокруг, а смотрела внутрь себя, на дюны воспоминаний, на песок памяти и прислушивалась к немолчному шепоту волн: где ты?
Ее руки, тонкие в запястьях, длинные в пальцах, жили сами по себе. Из большой фарфоровой посудины с замысловатой крышкой с множеством выпуклостей, изображавших фрукты и овощи, она раскладывала по тарелкам печеный картофель с мясом, тут же на тарелках лежали огурцы, помидоры, петрушка, сельдерей и еще какие-то неизвестные Винту травы.
От стола исходил одуряющий запах, напоминавший колониальные страны, туземные вылазки и всякую чушь, обрывки человеческой истории, загадочно мельтешившие в голове Винта. Вероятно, это было от присутствия Принцессы, от неведомой ее натуры, от могучего тока энергии, излучаемой Гаутамой, — он также был незаинтересован вокруг себя, перед ним лежал на тарелке на коленях пучок какой-то фиолетовой травы. Гаутама задумчиво брал стебелек, совал в рот, размеренно жевал, запивая из проткнутой банки кокосовым молоком.
И прежде жизнь казалась Винту, бродяге-ветерану, весьма и весьма глуповатым занятием, но здесь, наклонившись над едой, которая не приносила ни удовольствия, ни насыщения, все происходящее было похоже на сумасшедший сон, и Винт чувствовал, как под сердцем натекает тоска. Ей не было имени и причины, тоска пришла из других пространств, из неведомых жизней, где печаль преходяща, а радость бессрочна; где дети мудры, а старики независтливы, и где женщины велики в своей нежности и где, как чувствовал Винт, ему никогда не бывать.
Ели молча, будто иностранцы в благотворительной столовой, и лишь изредка обращались со смешными просьбами:
— Месье Дювалье, будьте любезны, передайте мне ножичек.
— Сеньор Арбуз, не позволите ли ножичек обратно?
Наконец, поевши, Дювалье сложил тарелки стопкой и вынес посуду на кухню, а из кухни прикатил тележку с чашками и кофейник, какого Винт давно не видал — большой, медный, блестящий нежным отблеском осенней или вечерней зари.
Винт смотрел дальше, он уверился, что попал к сумасшедшим и теперь соображал, как бы улизнуть, прихватив заодно что-нибудь ценное.
Гаутама кофе не пил, следуя запретам мировоззрения или чего-то еще — Винт не понимал — и вместо кофе читал остальным свои толкования на философию, отчего Винт клонился ко сну, но Дювалье и Арбуз таращились, будто что-то просекали в узловатых рассуждениях длинноволосого проповедника, и кивали, соглашаясь.
— Эти люди, — говорил Гаутама о неведомых сообществах, — взращивают натуру свою на философии любви, на той почве культуры, где только и может взрасти в предельный рост и в размах полноты человеческая сущность, если она уже в натальный период не изуродована социальными условиями. В самом общем смысле культура — это вся полнота наследственной, социальной, исторической информации в целом социуме или в отдельных его представителях... В России если она не отомрет и не зачахнет в остаточном большевизме — почва духовной культуры очень тонка, и большим деревам на ней не подняться и не удержаться, и пока лишь жухлые прошлогодние сорняки да молодая зеленая колючая поросль травы составляют ее пейзаж...
Перед сном в комнату Винта пришел Арбуз со стулом, сел посередине, уверенно-спокойный, будто знал многое такое, что никому неведомо. — Слушай сюда, — приказал Арбуз. — Завтра пойдешь со мною по пригородным электричкам. Собирать дань жалости и милосердия. — Меня Дювалье берет делать огуречные уколы. — Отменяется. Пойдешь со мной. Проведем инспекцию. Потом я тебя приспособлю к нищенству. А то, говорят, на электричках появились какие-то самозванцы... Бедным в нашем отечестве предстоит возрасти в массе и ничтожестве, и когда их станет подавляющее большинство, ты к этому времени будешь профессионалом нищенства. Или ницшеанства, — усмехнулся Арбуз. — Может, лучше у церкви поторчать? Медяшки подают. — Там тебе морду наквасят. У них своя команда. Ты пойдешь на мои рейсы. Заклеим тебе глаз, перекосим хлебало, костыль в руки и — с Богом. Ну-ка, повтори за мной: «Граждане милосердные, подайте бездомному калеке!» Винт покорно и уныло повторил. Арбуз слушал, склонив голову набок. — Худо, — решил Арбуз, — очень скверно. Прошение о милостыне должно быть несколько ироничным, чтоб царапнуть самолюбие дающего. Помню, ты был актером, и довольно приличным. И такие данные по свету растерял.
Перед сном в комнату Винта пришел Арбуз со стулом, сел посередине, уверенно-спокойный, будто знал многое такое, что никому неведомо. — Слушай сюда, — приказал Арбуз. — Завтра пойдешь со мною по пригородным электричкам. Собирать дань жалости и милосердия. — Меня Дювалье берет делать огуречные уколы. — Отменяется. Пойдешь со мной. Проведем инспекцию. Потом я тебя приспособлю к нищенству. А то, говорят, на электричках появились какие-то самозванцы... Бедным в нашем отечестве предстоит возрасти в массе и ничтожестве, и когда их станет подавляющее большинство, ты к этому времени будешь профессионалом нищенства. Или ницшеанства, — усмехнулся Арбуз. — Может, лучше у церкви поторчать? Медяшки подают. — Там тебе морду наквасят. У них своя команда. Ты пойдешь на мои рейсы. Заклеим тебе глаз, перекосим хлебало, костыль в руки и — с Богом. Ну-ка, повтори за мной: «Граждане милосердные, подайте бездомному калеке!» Винт покорно и уныло повторил. Арбуз слушал, склонив голову набок. — Худо, — решил Арбуз, — очень скверно. Прошение о милостыне должно быть несколько ироничным, чтоб царапнуть самолюбие дающего. Помню, ты был актером, и довольно приличным. И такие данные по свету растерял.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (338) »