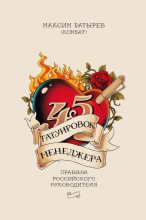- 1
- 2
ощущение Его присутствия. Это радость от этого присутствия. Всегда, всюду, во всем».
С. К.: Я пытаюсь сопоставить, когда в мою жизнь вошли Тарковские, и понимаю, что почти одновременно — отец и сын…
С. М.: Вообще-то первая книга Арсения Тарковского, «Перед снегом», вышла в том же году, когда фильм его сына «Иваново детство» получил Гран-при Венецианского фестиваля, то есть в 1962-м. Для людей культурных это было одновременное явление поэта и режиссера. Хотя, конечно, сиюминутный общественный эффект сравнивать невозможно, поскольку кино прошло по экранам всего мира. А тоненькую книжечку кто тогда прочел?
С. К.: Мне кажется, Арсений и Андрей — это воплощение одного мироощущения путем разных искусств. В слове и в кинематографе. Там есть совпадения. Берём их зрительные ряды. Например, у Арсения — «И птицам с нами было по дороге» (из стихотворения «Первые свидания»), а у Андрея есть кадр: мальчик стоит на горе, перед ним расстилается брейгелевский пейзаж, и к нему на плечо садится птичка. Это визуальный аналог строки отца.
С. М.: Это в «Зеркале»? Надо же! Пейзаж помню прекрасно, крупный план лица мальчика — тоже, а птички — не помню.
С. К. Или ещё. Из «Титании»: «Мне грешная моя, невинная / Земля моя передает / Своё терпенье муравьиное / И душу крепкую, как йод». И видим в фильме «Андрей Рублев», как Феофан Грек сидит…
С. М.: …и ноги у него в муравейнике. И ведь совсем не обязательно, чтобы сын прочел строки отца и, как по сценарию, проиллюстрировал. Эти образы словно имплицированы, заключены в общем «тарковском» коде.
С. К.: Есть хорошая работа, посвященная Андрею Тарковскому как режиссеру, где эта тема затрагивается, но, мне кажется, недостаточно глубоко. Нужно бы их образы на каком-то глубинном уровне прочесть, чтобы увидеть это подлинное единство. И вот все же возвращаясь к теме потаенного в современной ситуации: все равно больше знают Андрея, кинематографиста, а не отца-поэта.
С. М.: Ну конечно! Конечно! И это понятно: «важнейшее» и доступнейшее «из всех искусств» — все-таки кино.
С. К.: А ведущим-то является отец! Арсений! Притом что Андрей создал великое искусство, все-таки он ведом отцом.
С. М.: Мне на ум сразу приходит аналог — преемственность в старчестве. Скажем, оптинском. Есть преподобные Лев и Макарий, который создали Оптину пустынь, а есть преподобный Амвросий, который пришел к ним на послушание и окормление молодым человеком, и они его в глаза ругали, а за глаза говорили: великий подвижник будет, святой! И ведь именно он наиболее прославил и саму Оптину, и всё старчество…
С. К.: Мы говорим о слове. Но вот проблема: насколько слово вообще живо в современном мире? В новейшее время меня преследует ощущение смерти слова. Мне это так страшно!
С. М.: Думаю, что смерть сакрального слова есть практически синоним смерти мира. Конец света.
С. К.: Вроде бы внешне сейчас всё оживилось: распространились поэтические фестивали, всяческие конференции. Слушаешь — и стихи вроде бы хорошие, и доклады вроде бы хороши. А на самом деле — по преимуществу мертвечина.
С. М.: Это в девяносто девяти процентах из ста. Живое — пойди поищи!
С. К.: В этом смысле знакомство с поэзией Тарковского было знаменательным событием. Помню, в 1978 году мне дали его первый сборник. Я сразу запомнила его стихотворение «Жизнь, жизнь». «Предчувствиям не верю, и примет / Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда / Я не бегу. На свете смерти нет…» Это стихи о бессмертии.
С. М.: «…И я из тех, кто выбирает сети, / Когда идет бессмертье косяком».
С. К.: Да-да. Когда настоящую поэзию читаешь, то не то что понимаешь, а погружаешься в какой-то мир, в тайну, с иными законами существования. Этот мир, эта тайна — собственно и есть то, что я всю жизнь пытаюсь постигнуть. Я понимаю, что приблизиться до конца нельзя, но хоть бы в какой-то мере, хоть немножко… Любая подлинная поэзия — тайна, раскрыть которую до конца невозможно. И всё равно ты какие-то шаги делаешь, что-то приоткрываешь, понимая: да, вот это оно. И возникает книга — от желания поделиться понятым. Рассказать другим об увиденном тобой.
Со сборником Тарковского «Перед снегом» я засыпала и просыпалась. Я не могла с ним расстаться. Не выпускала его из рук.
С. М.: Всё-таки искусство может нести спасительную миссию?
С. К.: Может. Об этом, например, пишет Сергей Фудель (русский богослов, философ, православный литературовед. — Е.Б.). В XX веке выяснилось, что Достоевский оказался необходим душам как хлеб. Сейчас мир находится в таком состоянии, что не может сразу подойти ко Христу, войти в Церковь (об этом, кстати, ещё Гоголь писал). Это удел душ избранных, немногих, редких. Для многих «незримой ступенью» ко Христу (это опять-таки Гоголь искусство называл «незримой ступенью») стало, как о том говорит Фудель, творчество Достоевского, вообще высокое искусство, да и просто красота.
С. М.: Где-то в своих «Дневниках» Шмеман пишет о том, что человеку нужно научиться чувствовать Господне дыхание Бога в самых простых вещах… Отец Александр словно развивает, расширяет, уточняет мысль Пушкина о «двух-трех моментах», двух-трех счастливых ночах.
С. К.: Митрополит Антоний Сурожский утверждал, что человек не может уверовать, пока не увидит отблеск веры на лице другого человека. Искусство в этом смысле есть указующий перст именно на тот самый «отблеск веры на лице другого человека». Достоевский лично любил Христа, у него была такая любовь ко Христу, что когда о Христе что-то говорили, он плакать начинал. По воспоминаниям, у него лицо искажалось, он не мог равнодушно это переносить. Эта его живая вера вся воплощена в его творчестве. Книга Фуделя о Достоевском посвящена именно этой, живой вере писателя во Христа… То же самое можно сказать об Арсении Тарковском. Я не знаю, насколько он был церковным человеком, дело даже не в этом. А дело в том, что в нем жила эта живая вера. Она жила в его сердце. И через его сердце она сумела воплотиться в слове. Ведь бывает так, что живая вера есть, но в слове воплотиться — дара нет. Я часто вспоминаю слова Семёна Франка, называвшего любого русского поэта религиозным мыслителем. Арсений Тарковский — то самое. Он действительно религиозный мыслитель. Хотя у него была и личная вера — об этом свидетельствуют, например, некоторые записи в его записных книжках, которые приводит дочь Арсения Александровича Марина Тарковская в книге «Осколки зеркала». Через стихи Тарковского можно ощутить священную реальность, которая «просвечивает» сквозь предметы и явления земного мира.
Записала Елена Буевич
- 1
- 2