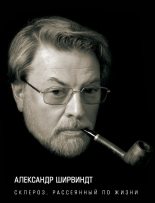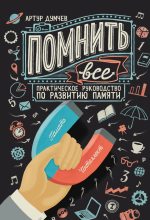- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (13) »
было красного. Не успел подумать, как предчувствия тут же оправдались. И сбоку еще приписано: «Совершенно не знаешь фенолов!» Красными чернилами, с восклицательным знаком — для него всегда такие учительские заметки звучали гневно, негодующе. Ну все, теперь бояться нечего. На душе сразу же стало гадко, мгновенно пав духом, он некоторое время вяло изучал свой листок, то там, то сям было подчеркнуто то одной чертой, то двумя чертами, то размашистой волнистой линией, а в одном месте уныло повис длинный вопросительный знак со слабо выраженным, ленивым изгибом, еще бы немного — и восклицательный, и еле заметная точка означена прикосновением шариковой ручки сантиметра на полтора пониже. Весь как будто в каком-то внутреннем онемении, он вчитывался в свою контрольную, стараясь понять, в чем же были ошибки, он как будто еще выслуживался перед кем-то, проявляя ученическое усердие, хотя теперь это было абсолютно все равно.
Получить двойку — это, конечно, неприятно, потому что переписывать контрольную еще неприятнее, чем ее писать, тем более что на переписываниях, которые проводились на нулевом или на седьмом уроке, царила атмосфера какого-то чрезвычайного заседания, что нервировало еще сильнее.
Еще совсем недавно все было на своих местах. Он чувствовал легкое беспокойство, которое всегда чувствовал перед раздачей контрольной, легкое беспокойство — и не более, и все в классе это же чувствовали, кто-то даже перешутился с ним по этому поводу, и он ответил в том же духе, все ясно — контрольная по химии, она и есть контрольная по химии, и больше ничего. Самое житейское дело. Но сейчас ему вдруг стало жарко, чуть ли не пот его всего прошиб, он почувствовал, как закололо под мышками и немного слез выдавилось из глаз. Житейское было дело, но сейчас как-то трудно стало назвать его житейским.
Несколько одноклассниц, тут же у стола, дурачась, подпрыгивали, били в ладоши, ликующе визжали, хот с самого начала было ясно, что получат они свои пятерки, потому что до сих пор они редко получали что-то другое, одноклассник полуныл-полумычал: «Ну, падла Людмила, ну, падла», — и ходил по классу, распростав перед всеми свой листок, доказывал, что запросто можно было поставить трояк; многие, бегло ознакомившись со своим листком, тут же нашли другие дела и вышли из класса, сразу опустевшего на три четверти, он остался один, ничего не видя. Потом вышел из класса, чтобы не привлекать к себе внимания своим видом (кто знает, какой у него сейчас вид, какая-то машинка внутри заставляла его соблюдать приличия), побрел по школьному коридору, стараясь держаться поближе к стенке, ему было все равно, падла Людмила или не падла, можно было поставить трояк или нет, все равно — чего уж теперь. Мысли плавали в голове сами по себе, но осторожно плавали, потому что ему было страшновато задуматься над чем-либо определенным, и мысль, наткнувшись на что-либо определенное, как-то съеживалась и медленно отплывала. Что ж, и задумываться было не надо: ему, всему его организму и так было все ясно.
Как он учился до сих пор, всегда? Взять хотя бы эту контрольную, как к ней готовился. У него в тетрадях мало что было, многого недоставало, он не привык слушать на уроках, записывал машинально только то, что было на доске, так вот, для надежности и взял сразу три чужие тетради, но тетради эти, похоже, принадлежали таким же, как и он сам, и в любой из них, взятой по отдельности, тоже многого не хватало, и он все терзался сомнениями, по какой же тетради учить: в этой про жиры хорошо написано, зато фенолов нет, в этой есть про фенолы, зато нет про сложные эфиры, и он долго прилаживал эти тетради друг к другу и так и сяк, чтобы получилось то, что нужно. В конце концов он выработал четкий план действий: про жиры читаю по этой тетради, часть про фенолы — по другой, часть — по третьей, затем возвращаюсь к первой тетради, читаю там часть про сложные эфиры, потом по собственной тетради читаю про… и т. д. и т. п. Пока он вырабатывал этот четкий план, весь измучился, измотался, напутавшись в этих комбинациях. Зато когда выработал, испытал подлинное облегчение, удовлетворение. На составление плана ушло, наверное, семьдесят пять процентов всего его времени подготовки к контрольной работе, а собственно, учить после этого ему стало казаться чуть ли не излишним, но учить было все-таки надо, и он, подавляя вздох, брался то за одну тетрадь, то за другую, все по составленному плану, но настолько отвратительно было читать про все эти фенолы, что то и дело приходилось делать передышку, как старухе, поднимающейся по лестнице, некоторое время ничего не делать, то есть слоняться или валяться, а потом опять приниматься за подготовку. Так он и готовился. И когда почувствовал, что произнывал над тетрадями уже достаточно, то и бросил. Когда шел на контрольную, мерой его подготовленности служило то время, которое произнывал над тетрадями, большая практика (почти десять лет) выработала в нем аппаратик, который определял, достаточно ли он подготовился или нет. Достаточно — это так же, как все время до сих пор, а до сих пор он училс вполне прилично, значит, в целом — все нормально. При счастливом стечении обстоятельств можно было получить и пятерку, а при несчастливом — двойку. Но обычно он получал четверки, значит, в целом все идет как надо. Были, правда, иногда и двойки, но с кем не бывает? Зато когда сидел в напряженной тишине класса и вчитывался в розданные учителем карточки или разбирал написанное на доске и смысл написанного с трудом доходил до него, отчасти от волнения, отчасти от страха найти там что-то невообразимое, чего он точно не знает, не напишет, в голове сразу всплывало все, что недочитал, недоучил, и он отчаянно трусил, был как пойманный за шиворот маленький пакостник: «Дяденька, ну отпустите, ну, честное слово, больше не буду, ну, честное слово, в последний раз», проклинал себя и клялся, что в следующий раз подготовится как следует, лихорадочно перерыва весь хлам в голове, который остался там после всего изнывания над тетрадями, и искал там те формулы, которые сейчас были нужны; формулы, до сих пор не выделявшиеся из общего серого хлама, теперь вдруг преобразились, стали единственным путем к спасению, обрели и вкус и запах. А учительница сидела за своим столом, что-то писала или читала, и вскидывалась при каждом подозрительном шорохе, зорко обводя глазами класс, а иногда вставала и начинала ходить между рядами, и кто-то, должно быть, обмирал, но не он, потому что отроду не списывал: заранее знал, что выдаст себя и выражением лица, и просто даже неестественной, деревянной позой, не то что некоторые виртуозы — сидят себе, небрежно что-то такое пописывают. И он напряженно вспоминал,
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (13) »