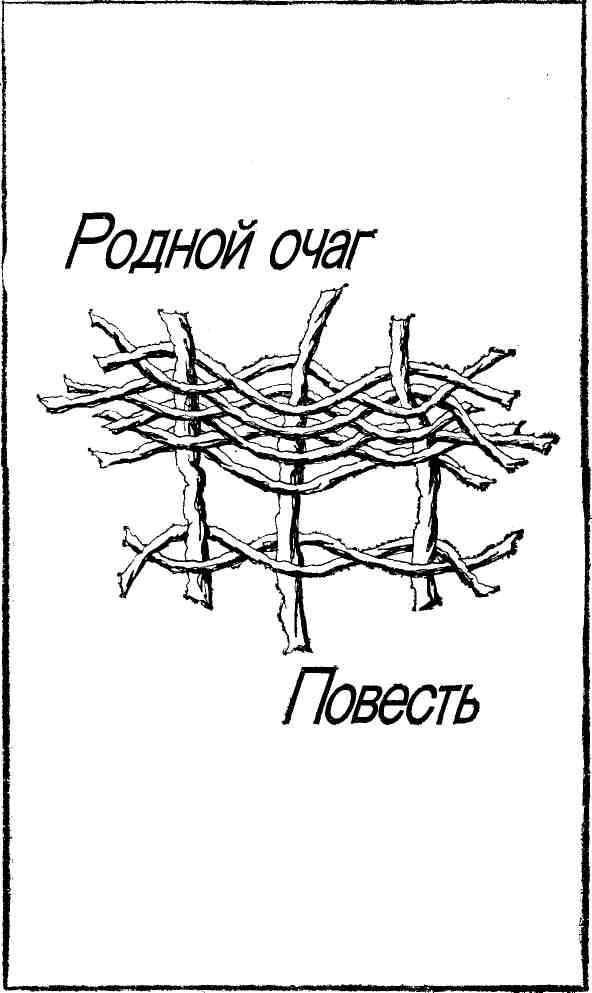Родной очаг


РОДНОЙ ОЧАГ
Повесть
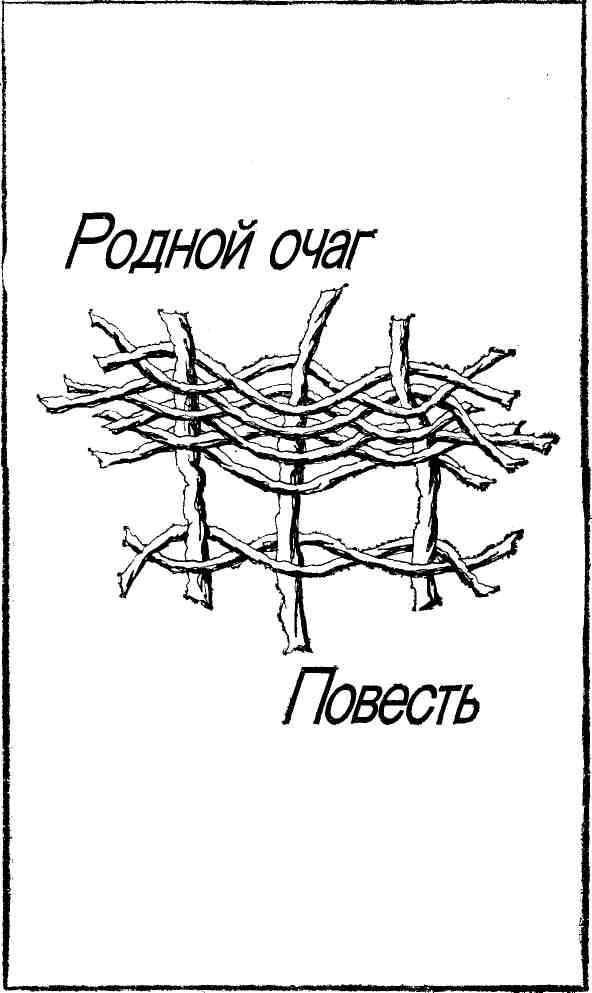
Живет Ганка на Хацапетовке — есть такой край в их селе. Край как край: до шоссе не так уж далеко, лес — за пригорками, за день можно обернуться за хворостом туда и обратно дважды, лишь бы сила была, а поле до самого огорода добегает. И речка есть неподалеку, можно камыша накосить или лепехи́, а то и коноплю вымочить, если понадобится. Любит Ганка свою Хацапетовку, никуда бы отсюда не перебралась, хоть бы и просили. Кому еще в селе так близко до глинища? А никому, потому что глинище тоже за огородом. Выгода, конечно, маленькая, но разве теперь больших выгод так уж много? Одна маленькая выгода, другая — тоже небольшая, с щепотку, третья — как маковое зернышко, а если все в кучу собрать?..
И поле у самой хаты — не у каждого. Когда зеленеет, когда цветет — радости с того на ломаный грош, а осенью? Осенью можно и колосок какой-то поднять, а колосок к колоску — вот уже и два. Или, скажем, картошки прихватить немного, или бураков. Потому что — когда идешь через поле — грех не нагнуться и не взять, оно ведь ничье, оно — общее. Раньше и арбузы тут сеяли, и помидоры, но с позапрошлого года перенесли их подальше от села, чтоб меньше паслись на них. Ну перенесли так перенесли, а земля не вылеживается попусту, вот люди и теперь никогда с пустыми руками домой не возвращаются. Снопик там соломы какой-то или морковка — для колхоза это и потеря не потеря, а для отдельного колхозника — уже что-то.
Про Ганку не скажешь, в теле она или нет, потому что одежда на ней всегда такая, что не угадаешь. Юбка — длинная, до самой земли болтается и так широка, что в холода сядет Ганка на траву, ноги ею окутает, вот уже и не мерзнет. И блузки на ней, и всякие кофтенки такие ношеные-переношенные, такие латаные-перелатанные, что она в них старше своих лет выглядит. У другой праздничная одежда есть, другая старается на люди выйти в новом да почище, а для Ганки что будни, что праздники — одинаково. Правда, есть у нее туфли, которые она старательно сберегает. Надевала раза три или четыре, когда еще девкой была, а с тех пор никак не осмелится. С каждым годом кажутся они ей все красивее, все фасонистей, а как наденет — люди и начинают языками чесать, что неспроста наряжается, наверно, уже на кого-то засматривается. Ах, чтоб им пусто было! Чтоб не давать чужим языкам работы — пусть лежат туфли, не слиняют, а не дождутся своей поры — тоже не беда.
Была у Ганки мать, войну пережила, дальше б ей жить, ведь не такая старая, но смерть не задобришь, не скажешь: наведайся попозже, — вот и появилась на их кладбище еще одна могила, а на кресте жесть с надписью: «Тут почиет раба божья Степанида Кирилловна Манжос. Земля ей пухом. 1890—1946».
Мужа Ганки убили на фронте. Даже похоронной на него не пришло, и Ганка долго еще рассылала повсюду запросы, ходила в райвоенкомат, добиралась в область, пока не сказали — погиб ее муж — и даже бумажку на руки выдали, в которой значилось — чернилами меж типографских букв, — что действительно погиб. Ганка не плакала, — может, потому, что смертельно устала от работы, а может, потому, что в войну слезы выплакала. Только оборвалось что-то в ней, лопнуло с болью — и ничем уже нельзя было стачать. Хотелось погоревать-попечалиться, но и горевать не было ни времени, ни возможности: нужно было как-то жить, нужно было думать о детях.
— Вот если бы вас не кормить, — говорила им, когда сердилась, а сердилась она не часто, — так пусть бы жили, не жалко, а то ведь каждый день рот раскрываете, каждый день туда нужно что-то кинуть.
Дети слушали и молчали. Были они худые, желтолицые, одни лишь глаза на лице видны — синие, как барвинок. От отца те очи, а от нее — волосы, не волосы, а кудель.
— И что вы у меня такие тихие? Чего не ссоритесь, не деретесь, не плачете? Подняли бы крик, драку затеяли, может, и на душе полегчало, а то тихо в хате, как на кладбище.
— И что вы, мама… — начинал и не договаривал старший — Иван.
— Ну, ну, выскажи матери! — подзадоривала сына.
Но Иван хмурился, голову в плечи втягивал — сидел сычом.
— Ну что за дети! Даже матери ответить не могут. Как же вы с людьми говорить будете, если защитить себя понадобится или мне помочь? И чего это вы в отца удались? И что в меня не пошли, а? Худо вам будет, а мне возле вас так горько — словно пироги с полынью есть.
Дети молчали.
Хацапетовка — такой край, что никому не клади палец в рот — откусят. На Хацапетовке ничто не делается так, чтобы другие про это не узнали. Справил отец девушке новые сапожки, прошлась она в них, а на другой день про это уже весь край знает, начинают косточки перемывать: неспроста, должно быть, вырядилась, боится, видать, в девках засидеться, вот и расстарались на обновку, вот и показывают ее всем. Уж лучше не прячьте: разговоров и так не миновать, а утихнут скорее. Если кто ссорится — все участвуют в ссоре, а потому со временем не так-то просто и помириться: нужно, чтобы весь край перемирился. Тут каждый с чем-нибудь таится. Тот — со своей радостью, тот — с горем, один — с неудачей, другой — с удачей. И все считают, что иначе нельзя, потому что иначе — пропасть можно. А пропадать по доброй воле никому не хочется.
Вот хотя бы Клара Стефанишина. За тридцать ей перескочило, а до сорока еще не доскочило. Перед войной, может, кто за ней из сельских ухаживал — забылось это или вспоминать никому не хочется, а как фронт стоял в их Збараже, так она не одного немца пускала к себе, еще и теперь носит подаренные тряпки. Пришли наши, так разве ж Клара не связалась с лихим старшиной?! Как отходил с частью, обещал вернуться — потому и не задевал никто Клару, побаивались. Старшина, правда, не пришел назад — пулю встретил ли в бою или другую молодичку заприметил, за которую и зацепился, но Клара и без него не пропала. Наведывался к ней из района солидный такой человек в кожаном пальто, которое он салом смазывал, чтоб блестело. Уполномоченный по заготовкам, говорила Клара, думает ее замуж взять, но то ли передумал, то ли в другой район перебросили, — перестал ходить. Ну, зато Клара в город перебралась, а когда приезжала в село — с накрашенными губами, с городской прической и сумочкой, — спрашивала Ганку:
— Как поживаешь?
— А так! Живу — хлеб жую! — с сердцем отвечала Ганка, которая недолюбливала Клару и не скрывала этого.
— Конечно, — соглашалась Клара и взбивала на голове волосы, завитые в мелкие кольца. —