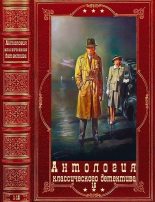Вадим Александрович Прокофьев
Дубровинский

Глава I
В Швейцарии на тюрьмах вывешивают белые флаги, если в узилище нет ни одного заключенного.
Белый флаг – символ капитуляции.
В России над тюрьмами не вывешивают флагов. Даже в дни тезоименитств.
В России в тюрьмах не бывает свободных мест.
Ржаво хрястнул замок. Словно отбил жирную точку в конце короткой биографии. Одиночка в двадцать лет!..
Надзиратель даже не буркнул ожидаемое: «из молодых, да ранний». Молча повернул ключ и неторопливо зашаркал прочь.
Тишина!.. Она навалилась. Оглушила.
Иосиф Дубровинский невольно шагнул к окну. Сквозь грязную паутину прутьев видна тюремная крыша.
На русских тюрьмах не вывешивают флагов. «Тюрьма что могила, всякому есть место».
Вот нашлось и ему. Ужели могила?
Да, так может показаться. В первый день. С непривычки…
А разве можно привыкнуть к тюрьме? Наверное, можно, если народная пословица напоминает: умного ищи в тюрьме, а дурака в попах.
И откуда только эти пословицы? Кружатся в голове все эти месяцы, пока смыкалось кольцо слежки. Обнаглевшие полицейские «пауки» раскланивались с ним по утрам. А проводив на очередной ночлег, загадочно ухмылялись. Они-то знали, что эта ночь может оказаться ой какой неспокойной. И поэтому не прощались.
Дубровинский отвернулся от окна. По рассказам тех, кто уже побывал в одиночках, он знал о меблировке «отдельных номеров царских отелей».
Семь шагов в длину. Четыре в ширину. Железная койка, привинченная к стене. Железный лист, ввинченный в стену. Еще один, железный, поменьше и пониже ввинченный. И в ту же стену вделан и тоже железный – третий – это стол, стул, полка для посуды.
И неизменная в углу параша.
«Умного ищи в тюрьме…»
Здесь, в одиночке? В этой тишине? Тут ум нечем занять. Мозг каждый день праздный. И понемногу начинаешь тупеть. Наверное, на это и надеются те, кто упрятал его сюда.
Пытка одиночеством. Бездельем. Неизвестностью.
Палачи рассчитали точно. У кого слабые нервы, кто не успел закалить волю, изведутся вконец.
В безмолвии, никем не потревоженные.
Те же, кто силен духом, будут день ото дня растить надежду. Да, да! Надежду! Они утвердятся в мысли, что если их не вызывают, не допрашивают – значит, не хватает улик.
Потом, когда вызовут, слабые, безвольные, будут готовы на все, чтобы избавиться от кошмара одиночки. Сильные, уверовавшие – ослабят внимание. И проговорятся…
Первый день в одиночке – это день метаний мысли. День торопливых шагов. Узник еще не считает часов, дней. Шагов. Он еще не успел осознать, что в тюрьме иной счет времени, иной ритм жизни.
Но он помнит, товарищи говорили о книге. В одиночке книга – это целый мир. Она подымает узника над будничной повседневностью, помогает скоротать вынужденную оторванность от дела, от борьбы, от близких.
И Дубровинский уже готов стучать, требовать книгу. Но через минуту забывает о ней.
Еще не скоро Иосиф получит книги. И не сразу они отвлекут его взгляд от решетки. Пройдет немало дней в метаниях, в тяжелой задумчивости, в мечтах.
Именно в мечтах. Ведь Дубровинскому всего двадцать. И он, наверное, фантазировал, строил планы. Планы побега. Только слабые смиряются с неволей. Сильные не могут не думать о том, как вновь обрести свободу.
И когда уже казалось, что планы, взращенные мечтой, вот-вот вынесут его из стены камеры, ржавый скрип в дверях напоминал о тюрьме. На миг прозревал «волчок». Потом в него вставлялся равнодушный, склеротический глаз. Не мигая, целился в узника, оглядывал решетку. И снова ржаво визжала заслонка.
Глазок поначалу приводил в бешенство. Хотелось подскочить, ударить, выбить это всевидящее, это недремлющее око.
Потом он к нему привыкнет. И не будет оборачиваться на скрип.
Глазки – нововведение. Они появились в российских тюрьмах после того, как в начале 1897 года мученически погибла народоволка Ветрова. Она вылила на себя керосин из лампы. И сгорела в тиши Петропавловской крепости.
Керосиновые лампы, как узников, заточили в железные решетки над дверью камер. В столице, в Доме предварительного заключения, построенном по последнему слову казематской техники, зажглось электричество. А старозаветная Москва все еще продолжала коптить тюремные своды стеариновыми свечами. Керосинового света над дверью камеры хватает лишь для бликов на потолочной плесени.
У Дубровинского на столе – свеча. Тюремщики экономят на копеечном освещении. И если узник желает читать в декабре, то изволь раскошелиться. А у Дубровинского нет денег. Даже на свечи.
Когда-то на Руси стражи взимали с колодников «влазную деньгу». Теперь – «свечевую».
Иногда так хочется еще и поесть чего-либо человеческого, а не этой тюремной похлебки и сырого тюремного хлеба с кипятком. Говорят, тюремный хлеб горький. Ничего подобного – кислый, словно его замесили на кислых запахах тюремной караулки.
Через нее выводят во двор на прогулку. Самые счастливые двадцать минут за сутки. Декабрьский мороз успевает немного просушить легкие, отсыревшие в камере, и даже серенький зимний денек кажется ярким после вечных сумерек одиночки.
Гуляя, Дубровинский жадно вглядывается в окна тюрьмы. Может быть, там, за этими серыми от грязи, разлинованными решеткой стеклами, мелькнет знакомое лицо товарища? Он ждал этого не с надеждой, скорее со страхом. И не обольщался, зная, что арестован по делу «Рабочего союза» не он один. И все же, если бы увидеть знакомое лицо! Ведь можно помахать рукой и получить в ответ приветствие. Ему так сейчас не хватает простого человеческого общения.
Надзиратели разучились улыбаться. Наверное, им это запрещено тюремным распорядком.
А конвойные – тем не до улыбок. Несчастные, забитые, темные солдаты, они, наверное, забыли, что на свете бывают веселье, смех. Они день и ночь, ночь и день стерегут эти стены, предназначенные для того, чтобы гасить улыбки.
Шли дни, недели…
Нет, нельзя привыкнуть к тюрьме. Можно заставить себя на время не замечать решетку, штык часового, не слышать бренчанья ключей. Можно заставить, но и этому Дубровинскому еще предстояло научиться.
Между тем жандармская машина работала на полный ход. Давно канули в Лету те времена, когда в России только налаживался полицейский сыск, когда места жандармских полковников и ротмистров занимали проштрафившиеся гвардейские хлыщи или бездарные, даже на общем фоне бездарности российской армейщины, отцы командиры. Если где-либо в провинции еще и царили «патриархальные нравы» среди чинов полиции, не пуганной народовольцами, не потревоженной стачками и забастовками, то только не в Москве.