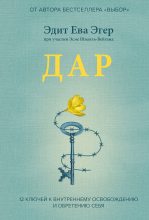немцев или, похлеще, экзекутора при пыточной палате петровских времен тоже имели свою семейно-историческую ценность.
Шурику не понадобилось никаких усилий воображения — его фамильная легенда была убедительно документирована несколькими газетными вырезками шестнадцатого года, восхитительным свитком толстой, а вовсе не тонкой, как воображают несведущие люди, японской бумаги и наклеенной на волокнистый бледно-серый картон недостижимого и по сей день качества фотографии, на которой его дед, Александр Николаевич Корн, громоздкий, с большим твердым подбородком, упирающимся в высокий ворот парадной сорочки, изображен рядом с принцем Котохито Канин, двоюродным братом микадо, совершившим длительное путешествие из Токио в Петербург, большую часть пути — по Транссибирской магистрали. Александр Николаевич, перспективный инженер железнодорожного ведомства, человек европейского образования и безукоризненного воспитания, был начальником этого специального поезда.
Фотография сделана двадцать девятого сентября 1916 года в фотоателье господина Иоганссона на Невском проспекте, о чем свидетельствовала синяя художественная надпись на обороте. Сам принц, к сожалению, выглядел кое-как: ни японского наряда, ни самурайского меча. Ординарная европейская одежда, круглое узкоглазое лицо, короткие ноги — похож на любого китайца из прачечной, какие в ту пору уже завелись в Петербурге. Впрочем, от прачечного китайца, заряженного не смывающейся до смерти улыбкой, его отличало выражение непроницаемого высокомерия, ничуть не смягченное ровной растяжкой губ, обозначавшей улыбку.
Изустная часть легенды содержала дедушкины воспоминания в бабушкиных пересказах: о длинных чаепитиях в пульмановском спецвагоне на фоне многодневной тайги, переливающейся за окнами ясными осенними красками лиственных и мрачно-зеленых хвойных.
Покойный дед высоко оценивал японского принца, получившего образование в Сорбонне, умницу и свободомыслящего сноба. Свободомыслие его выражалось в первую очередь именно в том, что он позволил себе невозможную для японского аристократа вольность личного и даже доверительного общения с господином Корном, который был, в сущности, всего лишь обслуживающим персоналом, пусть и высшего разряда.
Принц Котохито, проживший в Париже восемь лет, был большим поклонником новой французской живописи, в особенности Матисса, и встретил в Александре Николаевиче понимающего собеседника, каких в Японии ему не находилось. «Красных рыб» Александр Николаевич не знал, но готов был поверить принцу на слово, что именно в этом своем шедевре Матисс наиболее явно обнаружил следы внимательного изучения японского искусства.
Последний раз Александр Николаевич был в Париже в одиннадцатом году, еще до войны, когда «Красные рыбы» были еще икрой замыслов, зато именно в тот год Матисс выставил на осенней выставке другой свой шедевр, «Танец»… Далее рассказы бабушки о воспоминаниях дедушки плавно перетекали в ее собственные воспоминания о той их последней совместной заграничной поездке, и Шурик, легко допускавший умершего дедушку к знакомству с японским принцем, внутренне сопротивлялся тому, что его живая бабушка действительно бывала в городе Париже, само существование которого было скорее фактом литературы, а не жизни.
Бабушка от этих рассказов получала большое удовольствие, и она, пожалуй, несколько злоупотребляла ими. Шурик выслушивал ее смиренно, слегка перебирая ногами от нетерпеливого ожидания давно известного конца истории. Дополнительных вопросов он не задавал, да бабушка в них и не нуждалась. С годами ее прекрасные истории застыли, отвердели и, казалось, невидимыми клубками лежали в ящике ее секретера рядом с фотографиями и свитком. Что же касается свитка, то он был наградным документом, удостоверяющим, что господину Корну пожалован орден Восходящего Солнца — высшая государственная награда Японии.
В шестьдесят девятом году произошло великое переселение семьи из Камергерского переулка — Елизавета Ивановна упрямо и провидчески пользовалась исключительно старыми названиями — к Брестской заставе, на улицу, судя по ее названию, проложенную когда-то в пригородном лесу. Вскоре после переезда, уже здесь, на Лесной, в ее мелком рукаве, сбегающем к откосу железнодорожной ветки, соединявшей Белорусскую и Рижскую железную дорогу — Брестскую и Виндавскую, уточняла Елизавета Ивановна, — в новой трехкомнатной квартире, неправдоподобно просторной и прекрасной, бабушка впервые предъявила пятнадцатилетнему внуку самое сердце легенды: оно лежало в трех последовательно снимавшихся футлярах, из которых верхний был неродной — шкатулка карельской березы безо всяких выкрутасов, с выпуклой крышкой, зато два внутренних — подлинные японские, один из яблочного нефрита, второй шелковый, серо-зеленый, цвета переливов зимнего моря. Внутри возлежал он, орден Восходящего Солнца. Сокровище это было совершенно мертвым и обесславленным, от него остался лишь драгметаллический скелет, а шестнадцать бриллиантов, составляющих его душу и, строго говоря, основную материальную ценность, полностью отсутствовали, напоминая о себе лишь пустыми глазницами с искривленными ресницами лапок.
— А камни съели. Последние пошли на эту квартиру, — известила Елизавета Ивановна пятнадцатилетнего внука, похожего в ту пору на годовалого щенка немецкой овчарки, уже набравшего полный рост и массивность лап, но не нагулявшего еще ширины грудной клетки и солидности.
— А как же ты их вынимала? — заинтересовался молодой человек технической стороной вопроса.
Елизавета Ивановна вытянула из подколотой косы шпильку, ковырнула ею в воздухе и пояснила:
— Шпилькой, Шурик, шпилькой! Прекрасно выковыривались. Как эскарго.
Шурик никогда не ел улиток, но прозвучало это убедительно. Он покрутил в руках останки ордена и вернул.
— Пятьдесят лет со смерти твоего деда прошло. И все эти годы он помогал семье выжить. Эта квартира, Шурик, — его последний нам подарок. — С этими словами она уложила орден во внутренний футляр, потом во второй. А уж потом в деревянную шкатулку. Шкатулку заперла маленьким ключиком на зеленой линялой ленточке, а ключик положила в жестяную коробку из-под чая.
— Как же это он помогал, если умер? — попытался уяснить Шурик. Он несколько выпучил желто-карие глаза в круглых бровях.
— Право, у тебя соображение, как у пятилетнего дитяти, — рассердилась Елизавета Ивановна. — С того света! Разумеется, я продавала камешек за камешком.
Привычным движением с подковыркой она воткнула шпильку в пучок и задвинула крышку секретера.