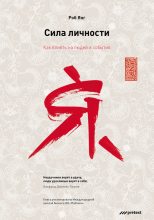Бескудникове — он останавливаться, естественно, не мог: с первым же обыском и арестом отец его проклял, заработав при этом инфаркт, и непременно донес бы на него в милицию, вздумай Виктор нелегально объявиться в Москве. Сильва же проживала в коммуналке в районе Новых Черемушек — тоже не самое идеальное место для ссыльного диссидента. С отбытием Людмилы — бывшей супруги Феликса — в Израиль вторая комната в квартире Феликса — их бывшая спальня — пустовала, казалась Феликсу зачумленной; он был страшно рад, когда Виктору с Сильвой понадобилось место для ночлега. Однако шансов на появление Виктора в тот раз в Москве было маловато. В те холерные дни билеты даже на электричку, по слухам, продавали только по спецразрешению и с предъявлением паспорта.
Как будто подменяя Виктора по этому торжественному случаю, на его любимом кресле красовалась заграничная посылка, с иностранными марками, штампами и штемпелями, исписанная загадочными надписями цветными фломастерами. Этот подарок из-за границы, картонный ящик, заведомо скрывал в своих недрах дотоле неизведанные прелести, недоступные обычным советским гражданам. Эта недоступность строго охранялась Каштанкой, почти еще щенком — псиной Виктора, вместе с ним переселившейся на квартиру к Феликсу. Ирония ее присутствия в квартире заключалась в том, что Каштанку видели здесь чаще, чем Виктора, — в те дни, как, впрочем, и всегда. Виктор был в бегах. Неказистая на первый взгляд, с подпалиной у правого глаза, Каштанка стояла на страже инвалютной экзотики с рьяной одержимостью новообращенного: подобное задание выпало ей впервые в жизни. Она сидела, не двигаясь с места у кресла, зорко озираясь вокруг, как главврач, оглядывающий больничную палату. Как только кто-нибудь из присутствующих протягивал руку, чтобы пощупать посылку и воочию убедиться в существовании потустороннего внешнего мира, Каштанка начинала рычать, скалить зубы и нервно колотить обгрызенным хвостом по полу.
«Партия большевиков, в лице Ленина, заявляет следующее», — продолжал зачитывать политический памфлет столетней давности, посвященный появлению в России «азиатской гостьи», Мигулин: «Все зависит от меньшевиков. Если они будут агитировать за холеру, то мы сочтем себя вынужденными объявить ей бойкот, и наоборот». В свою очередь, меньшевики, в лице Мартова, заявили: все зависит от большевиков. Если они объявят бойкот холере, то мы будем вынуждены агитировать за нее всеми силами, и наоборот. А князь Трубецкой высказался следующим образом: Я — мирообновленец. Мой идеал — мир и спокойствие. Самый же прочный мир и полнейшее спокойствие существует на кладбище. Может ли наша партия считать холеру своим врагом? Наоборот, мы считаем ее лидером нашей партии. Яснее всего сформулировал свою позицию лидер черносотенцев, доктор Дубровин: «Холера, милостивый государь, это гостья из Азии, а не какая-нибудь европейская штучка вроде парламента или конституции. Азия нам всегда посылала свои лучшие дары. Она дала нам кнут, дыбу и плаху; Азия, наконец, дала нам татар, которые, позабыв обиду, нанесенную им либеральным и мягкосердечным Иоанном Грозным в Казани, сделались истинно русскими людьми. На последнем заседании мы решили послать холере значок Союза Русского Народа…»
Как уместно и как вовремя Авестин (итальянский учитель Виктора по университету) переслал эту открытку. Хотя в те дни он был заключен за свой антисоветский пиранделлизм в стенах больницы им. Ганнушкина, неподалеку, на Матросской тишине, где ему в психиатрическо-тюремной тишине отбивали инсулином, казалось бы окончательно, всякую способность мыслить. История КГБ и судебных процессов в СССР разбиралась в его неподражаемом опусе как еще одна пьеса Пиранделло, с пресловутым отсутствием границ между сценой и залом, где режиссеры — советские следователи, подмостки — это зал суда, а актеры — участники судебных процессов, с присутствием зрителей в случае процессов показательных и в виде генеральных репетиций в случае закрытых процессов; с этой точки зрения вся страна превращается в конце концов в некий гэбистский вариант пиранделлизма, где все больше и больше зрителей становятся актерами, и так далее. Сейчас все это антисоветское остроумие звучит довольно натянуто и банально; но тогда, в то чумное московское лето, об авестинском эссе говорили все, но читать давали лишь особо допущенным; в связи с приездом американских сенаторов Москву очищали от нежелательных элементов, и Авестин пострадал одним из первых. Еще с пятидесятых сталинских годов, после пребывания в Ленинградской тюремной психбольнице, он состоял на принудительном учете в районном психдиспансере, и поэтому на этот раз его очень быстро упекли с милицией в Ганнушкина, неподалеку от Преображенки, на Матросской тишине.
И тем не менее Авестин каким-то образом умудрился вспомнить и сопоставить и день рождения 6 августа, и Преображенскую площадь, и холеру. Поразительная способность этих людей — из колледжа Авестина и Мигулина — отстраняться от убожества и удушливости ежедневной рутины, оттенять ужас макабром, сопоставлять, казалось бы, несопоставимое и тем самым маниакально-депрессивный психоз превращать в ликующий театр. Рюмка водки, очки, авторучка как будто летали в воздухе, подбрасываемые репликами Мигулина, расположившегося за столом перед своими записными книжками, листочками, выписками; перекладывал их, как жонглер-фокусник, и разговор благодаря этой сымпровизированной цитатности походил на спектакль, где марионетками были слова — их приводил в движение кукловод Мигулин.
От кого еще, как не от Мигулина, мог услышать Феликс пушкинскую сентенцию насчет разницы между чумой (которая прилипчива) и холерой (которая носится в воздухе), когда отпадает нужда в карантинах. Тут же, естественно, возникло сравнение холеры с советской властью, которая тоже давно носится в воздухе, и поэтому «нечего делить мир на Восток и Запад, внутреннюю и внешнюю свободу», — сказал Феликс, как бы отвечая Людмиле, в очередном своем письме из Израиля сравнившей свой отъезд из Москвы с исходом евреев из египетского рабства. И привел цитату из Тацита о том, что евреев, в действительности, просто-напросто изгнали из Египта, поскольку среди евреев постоянно свирепствовала эпидемия проказы, и дальновидный фараон пытался оградить местное население от прокаженных; довольно гуманное по тогдашним временам обращение с прокаженными, поскольку им в синайское изгнание выдан был даже проводник, египтянин Моисей. Мигулин как будто заранее готовился к этому разговору (или, точнее, сам же этот разговор и затеял, аккуратно его отрежиссировав), потому что