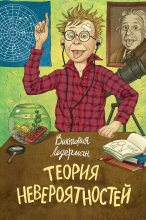- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (112) »
Умники запротестовали. Профессиональный пианист Артур Шнабель, человек возвышенного ума и едкого остроумия, утверждал, что грамзапись «противна самой природе исполнительства», поскольку она уничтожает контакт между музыкантом и слушателем, обесчеловечивает искусство[2]. Музыка, говорил Шнабель, явление единовременное, однажды исполненная, она никогда больше не прозвучит точно так же. И Шнабель величественно повернулся спиной к любым механическим неуместностям. Тем временем, перед Кемпфом встали новые дилеммы, нравственные и эстетические. Запись музыки, обнаружил он, занятие по природе своей соревновательное. Если до войны никто не мог эмпирически установить, что Ферруччо Бузони играет лучше, чем Игнацы Ян Падеревский, то теперь появилась возможность сопоставлять Кемпфа с Вильгельмом Бакхаузом и, держа на коленях партитуру, а в руке секундомер, проверять каждую ноту «Лунной сонаты» и сравнивать темп исполнения каждой ее части с метрономическими пометками Бетховена, доказывая, что Кемпф намного выше своего конкурента. Начались раздоры. Исполнители обращались в худших врагов, слушатели сбивались с толку. Вскоре выяснилось, что уже недостаточно держать в шкафу гостиной одну «Лунную»; две, а то и три грампластинки становились свидетельствами интеллектуальной свободы и цивилизованной терпимости их владельца. Если венские императоры устраивали некогда состязания между Моцартом и Клементи, то теперь владельцы домов в пригородах Пекема или Питтсбурга, сопоставляли во время бритья Рахманинова с Владимиром Горовицем. В музыку проник элемент спортивной игры.
Доживший до девяносто пяти лет Кемпф стал мастером студийной записи. Артикуляция его была ясной и точной, ноты отделялись одна от другой, точно драгоценные камни, в своих интерпретациях он старательно избегал излишеств индивидуализации. Он дважды записал всю популярную классику, купил замок невдалеке от Байройта и оставался исключительной собственностью компании «Deutsche Grammophon»[1] с 1935-го до своей кончины в 1991-м. И все же, несмотря на то, что грамзаписи его присутствовали в тысячах домов, привычной домашней принадлежностью Кемпф не стал. Лишенный сценического магнетизма, он не выступал в Лондоне и Нью-Йорке до 1951 года, и многие из тех, кто часами простаивал в очередях, чтобы услышать, как Кемпф повторяет его высокочтимые студийные интерпретации, расходились после концертов, чувствуя себя обманутыми. Куда исчезала та восторженность, та тонкая нюансировка красок, когда этот невзрачный человечек выходил на пустую сцену? Кемпф, жаловались они, - изделие синтетическое, пианист, который до возникновения обезличенной грамзаписи, преуспеть ни за что бы не смог. Славой своей он был обязан работе, совершавшейся в темноте, в стороне от общественных и политических реалий. В написанных им мемуарах Кемпф предстает человеком, которого никак не коснулись травматические события века, Гитлер, массовая истерия - выступая в оккупированном Кракове, он и понятия не имел, что от него до Освенцима всего только час езды[3].
Шнабель же, напротив, остро реагировал на настроения публики и, в конечном счете, перестал сопротивляться грамзаписи, сообразив, что пока американцы не получат возможность сравнивать его живое исполнение с целлулоидными заменителями оного, ему так и придется довольствоваться популярностью, которая распространяется лишь на Европу и Британскую империю. Самым главным для него всегда был принцип личного контакта. Человек чрезвычайно общительный, да к тому же еще и полиглот, человек, владычествовавший над клавиатурой, Шнабель создал новую редакцию тридцати двух сонат Бетховена и за семь берлинских вечеров, - когда в 1927 году отмечалось столетие со дня смерти композитора, - сыграл их одну за другой, от первой и до последней. Он дважды повторил этот цикл в Лондоне, одновременно записывая его в компании «His Master's Voice»[2] (HMV). Продававшаяся по предварительной подписке коробка из 100 грампластинок, появилась в 1939 году. С помощью этого комплекта Шнабель создал двухгранную концепцию целостности: полное сочинение, сыгранное высшим исполнительским авторитетом. Впрочем, сама идея полного цикла имела и еще одно преимущество: она позволяла продавать людям то, чего они иметь никогда не хотели и о существовании чего даже не догадывались. Подписчики, желавшие получить «Лунную», «Hammerklavier» и величавый опус 111, получали заодно с этими вершинными достижениями грампластинки, на которых были записаны сонаты им менее интересные Бетховенский цикл Шнабеля показал, что великих композиторов можно выбрасывать на рынок, ориентированный на стремящихся в саморазвитию представителей среднего класса, точно так же, как прочие украшения гостиных - энциклопедию «Британика», пьесы Шекспира и герань в горшочках.
Шнабель освоился в мире грамзаписи далеко не сразу, режиссеру звукозаписи приходилось приводить в студию свою хорошенькую племянницу, чтобы та переворачивала страницы партитуры, создавая иллюзию присутствия публики. «Я страшно мучился и приходил в отчаяние, - вспоминал Шнабель. - Все казалось мне искусственным - свет, воздух, звук, - у меня ушло немалое время на то, чтобы заставить компанию приспособить ее оборудование к нуждам музыки»[4]. Однако грамзапись есть антитезис синтетичности. Грамзаписи наполняет спонтанность, они пестрят неверно взятыми нотами, их пропитывают презрение к точности и стремление к поискам внутреннего смысла. Шнабель, сказал после его смерти в 1951-м чилийский пианист Клаудио Аррау, был первым, кто «проиллюстрировал концепцию интерпретатора как скорее слуги музыки, чем ее эксплуататора»[5].
Впрочем, те, кто помогал ему делать записи, ничего против эксплуатации не имели. Они приняли представления Шнабеля о целостности и полноте и продавали эти представления, точно дверные стопоры, тем, кто закупал домашние принадлежности большими коробками. Если Кемпф удовлетворял потребность в музыке ex machina[3], Шнабель обратил Бетховена в домашнюю принадлежность, которая всегда находится под рукой.
Грамзаписи, создававшиеся до описанных здесь событий, представляют интерес скорее археологический. Продираться сквозь звуковые дебри первого вердиевского Отелло, Франческо Таманьо (1850-1905), или последнего кастрата Алессандро Моречи (1858-1922) занятие увлекательное, однако предаваться ему можно лишь до тех пор, пока вам хватает доброжелательности склонять перед этими исполнителями голову. Высота звука вихляется, треск статики раздражает слух, а чтобы увериться в музыкальных достоинствах певцов, слушателю
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (112) »