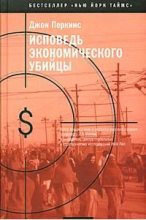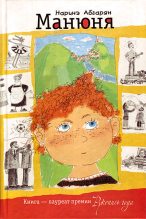именем. Да, Герцена. Сердце ухнуло и с трудом вернулось к привычному ритму. Да-да, именно о Герцене он заговорил прошлым летом с молоденькой русской - здесь, в Мариенбаде, на скамейке около белой резной колоннады, в окружении белых шляпок и зонтиков. Он был здесь один - жена уехала в Берлин улаживать какие-то семейные дела. Выбитый из уже привычной семейной рутины, он вдруг вернулся к столь приятному некогда занятию - бродить и глазеть по сторонам. Когда-то он потворствовал этой дурацкой привычке, уговаривая себя тем, что писатель должен быть прежде всего наблюдателем. Сейчас, когда он уже ничего не писал, кроме служебных бумаг, он занялся этим просто от скуки. Напившись целебной воды и позавтракав, он выходил к колоннаде, садился на скамью, раскрывал газету и, читая вполглаза об обмене бранчливыми нотами между Петербургом и Парижем, Веной и Берлином, Белградом и Стамбулом, посматривал на фланирующих, примечал их нелепые позы, комичные жесты, вслушивался в многоязыкую речь, пытаясь ухватить, о чем идет речь. Так он и сидел целыми днями, сербы вымогали у турок кусок Эгейского побережья, турки жаловались русским, русские требовали объяснений от австрийцев, австрийцы просили поддержки у французов, а те грозили республиканским кулаком императору Николаю и его кузену Вилли, а мимо прохаживались благодушные буржуа средней руки, осмелевшие от полувекового континентального мира ровно настолько, чтобы тратить досуг и немалые деньги на исцеление от желчнокаменной болезни и гастрита. Как-то раз он заметил девушку на скамейке напротив, черты ее лица чем-то напомнили ему жену, он вздрогнул и поднялся, чтобы уйти. Вставая, он поймал ее внимательный взгляд. Он прошелся до курхауса и вернулся, надеясь, что девчонки уже нет. Она сидела на той же скамейке и по-прежнему подглядывала за окружающими поверх раскрытой книги с красной обложкой. Он прошелся мимо нее, отметив, что она одета точно так же, как Фелиция на памятной фотографии, - белая блузка и темная юбка. Еще он заметил, что она похожа на жену только большим носом; все остальное - губы, разрез глаз, оттенок цвета кожи - было иным. Она продолжала следить за ним, и это его разозлило. Он решил сказать ей - по-немецки - какую-нибудь резкость, надеясь на то, что русская его не поймет и можно будет спокойно ретироваться, отомстив и не причинив зла. Почему он сразу решил тогда, что она русская? Именно из-за книги: он узнал кириллицу на обложке. Когда-то он много, до головокружения, думал о России, мечтал о чувствах, вычитанных им у Достоевского и Герцена, даже воображал себя живущим в русской глухомани, в хибаре у железной дороги, ведущей в никуда. Когда несчастный серб убил эрцгерцога и казалось, что война с Россией неизбежна, он страшно переживал, мучаясь желанием вступить в армию, чтобы разом покончить с адом тогдашней своей жизни. Он принялся читать французские воспоминания о наполеоновском походе на Москву, смакуя удивительную мысль, что самая сильная армия в мире была проглочена огромными, занесенными снегом русскими равнинами. Возможно, что он как раз и хотел попасть в армию, чтобы пойти походом на Москву и исчезнуть навсегда в предместьях Азии. Сейчас он уже не помнил точно. Впрочем, Распутин уговорил царя не начинать войну, и сербы, разобидевшись на Россию, приняли австрийский ультиматум и в который раз поменяли покровителя. Он вспомнил, как расстроился, прочитав в газете, что австрийские сыскные чины уже принялись искать заговорщиков в Белграде. Тогда, летом четырнадцатого, казалось, что все пропало для него: Фелиция вынесла ему приговор, как потом оказалось, опротестованный ею же самой, уйти в Россию дорогой Наполеона не удалось. Пригвожденный к себе, он принялся было сочинять роман, но не продвинулся дальше первого предложения. "Не сделав ничего дурного, он попал под арест". Он знал эту фразу наизусть, хотя ничего более из своих писаний не помнил, а все бумаги, наброски и дневники вручил после свадьбы Максу с просьбой сжечь. Коварный Макс невинно спросил его, почему, мол, он сам их не уничтожит? Что он мог ответить? Он промолчал. Через несколько дней Макс телефонировал и сообщил, что развел из его писаний костер у друга на огороде в Нусле. Место было выбрано безошибочно - он сам когда-то работал на этом огороде, пытаясь закалить свое измученное душой тело. Больше Макса он не видел никогда.
Он смог разобрать, что было написано на ее книге: восемь лет назад он успел осилить русский алфавит. На обложке стояло имя "Герцен". Он подошел к девушке и срывающимся голосом сказал: "Ваше шпионство вынудило меня уйти. Так-то вот". Уже развернувшись, он услышал как на безупречном немецком ему ответили: "Позвольте, это вы первый начали следить за мной!" Остановился, повернулся. Она смотрела на него весело и спокойно. "Я думал, вы слишком заняты своим Герценом". Тут уж ей пришел черед удивляться, впрочем виду не подала и парировала: "А я думала, что вы слишком увлечены своей газетой". "Нет, я как раз размышлял, что сказал бы этот мизантропичный социалист, увидев в России парламент и правительство, возглавляемое либералом Набокоффом". - "Вы думаете, он был бы доволен?" - "Вряд ли". - "Я тоже так думаю". Рассмеялись. Представились. Она гордо носила греческое имя Лидия; она вообще была гордой и самостоятельной, училась в Марбурге у серьезных философов, ценила Маркса, переводила на русский какого-то французского романиста, затеявшего, по ее словам, эпопею почище Бальзака. Родители, которые остались в приморском русском городе, обеспечивали ее, но она тяготилась даже этой зависимостью и хотела остаться в Германии преподавать. Он испытал острое чувство зависти, пожалуй, алчбы, к этой молодой сильной жизни, к этой осанке, никогда не знавшей тяжести шестичасового конторского рабочего дня, к этой географической легкости, к этой серьезности. Несмотря на разницу в семнадцать лет, она знала больше и держалась увереннее его. Даже свое еврейство она переживала по-иному; он вспомнил, как за шесть лет до этого видел здесь, в Мариенбаде, знаменитого хасидского ребе из Бельцова, она осталась к его рассказу равнодушной, не совсем, по-видимому, представляя, кто это такой, а на вопрос, не собирается ли она в Палестину, усмехнулась и ответила, что предпочитает быть подданной российского императора, а не турецкого султана. Так и разговаривали: он ей про Верфеля и Майринка, "Соколов" и кайзера Карла, она ему - про Распутина и Плеханова, Гумилева и Кузмина. Да-да, конечно, он вспомнил, когда-то, в прошлой жизни, он читал удивительную повесть русского писателя с такой фамилией - про Александра Македонского. Конечно же, там были крокодилы, моча которых прожигала дерево. Он поздно спохватился, с