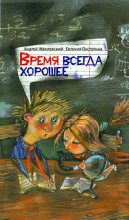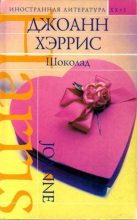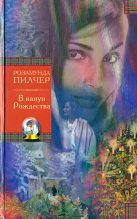- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (133) »
улице переулки Большой Толмачевский, Малый Толмачевский и Старый Толмачевский, где жили толмачи — переводчики с русского языка на татарский и наоборот. На месте Спас-Болвановского переулка (переименован в Кузнецкий) русские князья встречали ордынских послов, которые несли изображение татарского идола (болвана). Иван III, как известно, сбросил такого болвана с носилок послов, девять татарских послов казнил, а одного послал обратно в Орду сказать, что Москва больше платить дань не будет. Левее от улицы Большая Ордынка в сторону Серпуховской заставы (ныне Добрынинской площади) идет Малая Ордынка, а еще левее — Пятницкая; правее Большой Ордынки — Полянка; еще правее, в сторону Калужской заставы (ныне Октябрьской площади) — Якиманка (переименована в улицу имени Димитрова). Улица Полянка — от слова «поля» — там, на задах домов, были огороды, поля. На Якиманке была церковь Иоакима и Анны, от нее и название улицы (в простонародье вместо Иоаким говорили Яким). Входила в Замоскворечье и улица Житная.
Все эти замоскворецкие улицы сходились у Серпуховской и Калужской застав — по бокам дороги стояли два каменных высоких столба с гербами наверху, рядом будка, в которой жил сторож. За заставой кончалась Москва, шли огороды.
— Вы спрашиваете о замоскворецком быте, — напомнил мой собеседник и рассказал о некоторых подробностях его. — Быт был устоявшийся, в начале двадцатого века он, видимо, мало чем внешне отличался от времен Островского. Жили в Замоскворечье купцы, торговцы, ремесленники, мещане и средние чиновники. Дома были преимущественно одноэтажные и двухэтажные с мезонинами. Двухэтажные дома держали домовладельцы, сами занимали обычно бельэтаж, а остальные квартиры сдавали. Фасад дома выходил на улицу, остальные окна были обращены во двор, в сад. Вход устраивался со стороны двора. Ворота обычно ставили дубовые, массивные, в плитках и шашках, с деревянными изображениями львов. Подворотни закрывались доской с ручкой посредине, дворник вставлял ее в пазы, чтобы не забегали во двор чужие собаки. Вход во двор был через калитку ворот, а сами ворота всегда были закрыты, открывались лишь, когда приезжали водовоз, огородник. Дети по улице не бегали, они играли во дворе, в саду, из окна дома можно было наблюдать за ними. В каждый двор ежедневно заезжал огородник, доставлял из своего подмосковного огорода картофель, капусту, морковь, огурцы. Там, где сейчас площадь Репина, находился знаменитый замоскворецкий рынок Болото. В центре рынка стояло старинное круглое здание, из окошечек которого торговали рыбой, овощами, ягодами. Торговали и с возов. Люди шли с рынка Болото и разбредались по улицам с решетами клубники, крыжовника, клюквы…
Как начинался день в Замоскворечье? Вставали рано, в шесть часов утра. Шли к ранней обедне. Потом — по своим делам — в лавки, конторы; одни одетые в европейские костюмы и в шляпах, другие в армяках и картузах, гимназисты в серых шинельках, в голубых фуражках с кокардами…
На улицах появлялись и заходили во двор шарманщики; кто с обезьяной — потешать; кто с попугаем — гадать; ходили цыганки — танцевали и пели во дворе, ино-где дворник прогонял их. В разных концах улицы раздавались крики: «Точить но-о-жи, ножницы»; «Стекла вставлять». На плечах у кричащего станок со стеклами. Торговец кричит свое: «Груши, яблоки» — они красуются на больших лотках, покрытых белыми полотенцами. Подкованные лошади громко цокали по булыжнику улицы. Каждый извозчик имел свой номер, он проставлялся на задней, наружной стенке саней. Это были извозчики пассажирские. Но были еще и лихачи: коляска с красивыми дутыми шинами, нарядный кафтан на самом извозчике. Не каждому по карману лихач. Пассажиры торгуются: «Тридцать копеек». — «Дорого». — «Ну, двадцать пять копеек…»
Жили тогда, конечно, не так, как теперь…
В театр не ходили… На каждой улице было по несколько церквей. Но каждая семья еще и приглашала служить молебен на дом. Доставляли из часовен Иверскую Божию Матерь, Боголюбскую, Нечаянной радости. Икону в тяжелой серебряной ризе несли пять-шесть человек, им помогали, надев белые чистые фартуки, дворники. Ее ставили в угол, на постланный ковер. Стояла икона минут тридцать-сорок, пока шел молебен. Двери были открыты настежь, приходили соседи…
Ну, я как будто и все рассказал, — закончил «последний замоскворецкий житель» свои воспоминания. Может быть, и не все, подумал я, но много интересного, главное — конкретного, которое просто необходимо знать каждому читателю и зрителю пьес Островского. Ведь это та бытовая среда, тот воздух, которыми живут и дышат его герои и без знания которых они будут нам непонятны.
О Замоскворечье есть свидетельства современников Островского и самого драматурга. В очерке «Замоскворечье в праздник» он писал: «Когда у нас за Москвой-рекой праздник, так уж это сейчас видно. И откуда бы ты ни пришел, человек, сейчас узнаешь, что у нас праздник. Во-первых, потому узнаешь, что услышишь густой и. непрерывный звон во всем Замоскворечье. Во-вторых, потому узнаешь, что по всему Замоскворечью пахнет пирогами… Но вот отходит обедня, народ выходит из церкви, начинаются поздравления, собираются в кучки, толки о том о сем, и житейская суета начинается. От обедни все идут домой чай пить и пьют часов до девяти. Потом купцы едут в город тоже чай пить, а чиновники идут в суды приводить в порядок сработанное в неделю. Дельная часть Замоскворечья отправилась в город: Замоскворечье принимает другой вид. Начинаются приготовления к поздней обедне; франты идут в цирульни завиваться или мучаются перед зеркалом, повязывая галстук; дамы рядятся… Вы увидите часто купца в костюме времен Грозного и рядом с ним супругу его, одетую по последней парижской картинке… Обедни продолжаются часу до двенадцатого. Потом все идут обедать; к этому времени чиновники и купцы возвращаются из городу. С первого часа по четвертый улицы пустеют и тишина водворяется; в это время все обедают и потом отдыхают до вечерен, то есть до четырех часов. В четыре часа по всему Замоскворечью слышен ропот самоваров: Замоскворечье просыпается и потягивается. Если это летом, то в домах открываются все окна для прохлады, у открытого окна вокруг кипящего самовара составляются семейные картины. Идя по улице в этот час дня, вы можете любоваться этими картинами направо и налево… После вечерен люди богатые (то есть имеющие своих лошадей) едут на гулянье в парк или Сокольники, а не имеющие своих лошадей — целыми семействами отправляются куда-нибудь пешком; прежде ходили в Нескучное, а теперь на Даниловское кладбище. Общества совершенно нет, в театр не ездят. Разве только на святках да на
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (133) »