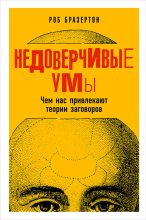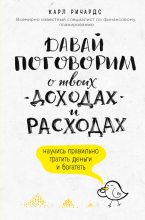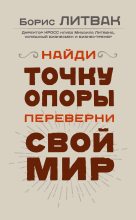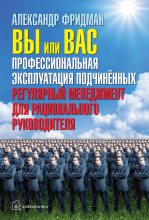нисколько не боялся "неправды" со стороны мастера. Верещагин писал такую правду, страшнее которой и быть не может. Но почему-то Скобелев понимал искусство Верещагина, знал, что такая "неправда" необходима.
В.Б. Но у тебя ещё была целая дистанция до газеты "Завтра". Ты — художник-станковист, как же ты пришёл к нам в газету, как пришел к газетной графике? И в период чешских событий, и даже во время поездки по Афганистану, ты ещё был, как говорили, прогрессистом, человеком либеральных взглядов. Что заставило тебя так круто сменить свои убеждения? Что открыло тебе глаза на неприглядность и самого западного мира, и его сторонников у нас в России? Дело ведь даже не в знакомстве с Прохановым. Ты мог иллюстрировать его книги и оставаться при этом сторонником совсем иных политических убеждений. Оформляет же сейчас Александра Проханова мой однофамилец Андрей Бондаренко, подчеркивая в своих интервью, что ему чужд Проханов как политик. Он, кстати, и навязал книге "Господин Гексоген" эту пресловутую обложку с черепом Ленина…
Г.Ж.
Андрей Бондаренко его не иллюстрирует… Он Проханова упаковывает.
Что касается меня и моих убеждений, поверь мне, единственный советский человек, которого я встречал до 1991 года, это и был Александр Проханов. Абсолютно советский человек. Я даже не знал, что такие люди ещё остались. Все остальные были люди, разочарованные в Советском Союзе. Это ныне, спустя дюжину лет, многие оценили достоинства и красоту советского строя. Тогда же все вокруг хотели перемен… Это факт. Поэтому все рухнуло. Среди моих друзей был и Игорь Макаревич. В большую мастерскую на Большой Никитской заходили Владимир Сорокин, Иван Чуйков, Илья Кабаков. Все антисоветчики. Это была яркая, интересная среда. Мне было лестно и приятно общаться с этими людьми, но я чувствовал ещё тогда нечто такое… Их какое-то презрение к народу. То есть все они были "асфальтовые" ребята. Оранжерейные растения. Это еще меня сдерживало от полного приятия их позиции, мешало мне плюхнуться к ним в объятия. Они были чужими для меня, выходца из Сибири… Народного, по сути, человека. Сейчас я уже понимаю, что их пафос и их авангард, были, так сказать, "по знакомству". Это был авангард по блату.
Когда я познакомился с Прохановым, я был индифферентен к красной имперской идее, которую провозглашал Проханов. Среди патриотов я больше выделял почвенников, деревенщиков — таких, как Белов и Распутин. Сказывались крестьянские корни. Но Проханов поразил меня своей открытой и неподдельной "советскостью", хотя он никогда и не был в партии… Кстати, сам я в партию вступил почему-то в 1991 году. Функционеры, перед тем как разбежаться, меня быстренько выбрали секретарем партийной организации МОСХа, вручили ключ от сейфа, где лежало 37 рублей и куча заявлений о выходе из партии. Так что, ежели что и в случае чего…
Теперь о том, как я пришел в газету. Когда в 1992 году "демократы" разогнали фронтовиков, избили ветеранов дубинками, я от злости и где-то от бессилия изобразил тогдашнего мэра Москвы Гавриила Попова в виде эдакой гориллы. Написал: "Гаврила — горилла" и пошел с эти плакатом на демонстрацию оппозиции. Меня поразила реакция народа на мой плакат. Живо обсуждали, смеялись. Помню, поворачиваю свой плакат в сторону тротуара — прохожие падают от хохота. Я потом перевел этот плакат в графику и отнёс в газету "День" к Проханову. И всё-таки рубеж для меня — это 1993 год. Этот расстрел я уже никак не мог простить ни Ельцину, ни "новым русским", ни своре "интеллигентов"… Вообще художник не может не быть экстремистом, "левым". Художник — это прямой рупор сокровенных и высших сил. Он всегда в чем-то противостоит любой власти, всегда стремится открыть новое, неопознанное в человеке, в обществе, во всех формах его деятельности. Художник творит, а куда его занесет, он и сам не знает. Возьмем "Серапионовых братьев". Читаем их манифесты: "…искусство выше жизни". Читаем их лучшую прозу — там такая густая жизнь, возьмите любой рассказ Михаила Зощенко, любой рассказ Всеволода Иванова или того же Каверина. Война, сибирские партизаны, расстрелы… Там все. Высшая концентрация истории. Если это не чувство жизни, то что?
В.Б. Скорее, я бы тебя поправил, художник должен быть антибуржуазным и неполиткорректным, выходить за правила общества во имя самого общества. А левый он или правый — это уже не важно. Каким был Достоевский или Чехов?
Г.Ж.
Многие среди моих друзей — архитекторы, проектируют особняки для "новых русских" и прочее. Архитекторы в Москве сейчас материально процветают. Но у них наступает некая анемия в плане идей. Ну, один сделал особнячок, второй, и всё как-то вяло, неинтересно, без прорыва… Наше искусство сегодня — это яшмовые буквы в золотом ободке на фасаде музея Александра Шилова. Тяжелые картины в золотых рамах, выставленные в салонах. Портреты, на которых люди с кольцами и бриллиантами… Или с другой стороны, "концептуалисты"… Море заумных текстов, ничтожный визуальный ряд, какие-то обмылки чувств.
В первом случае — выхолащивание, утяжеление и затвердевание. Во втором — распыление, исчезновение материи, виртуализация. То есть сплошное мигание, мерцание. Русское искусство пошло на разрыв. От всего этого отдает могильным холодом "черного квадрата".
В.Б. Получается, что всё-таки Казимир Малевич предсказал смерть такого искусства, тупиковость формальных поисков. Они же, все эти новые лидеры мирового авангардизма, и ходят уже 80 лет вокруг его “черного квадрата”. А дальше нет ничего.
Г.Ж.
Извини, Володя, "Черный квадрат" можно понимать как плиту надгробную, можно понимать как пиксель компьютера, то была точка-пауза в искусстве. Но еще тогда же, в легендарные двадцатые годы, из-под этой надгробной плиты поднимались живые, пассионарные побеги. Лентулов, Машков, Петров-Водкин, Кончаловский… Потом пришло совершенно другое: реализм, неоклассицизм. Дошли даже до гиппереализма. Но как это было прекрасно! Вспомним того же Лактионова и его "Письмо с фронта", или эпическое творчество Павла Корина. Великое искусство…
Были те, кто не помещался в "периоды" и направления. В них душа земли, дыхание нашей почвы, живое глубинное национальное чувство… Все это в сверкающих картинах обожаемого мною Аркадия Пластова. Или в мощных, словно вырастающих из нашей геологической платформы, скульптурах Дмитрия Филипповича Цаплина, с которым мне посчастливилось общаться на заре моей юности. Кстати, и Пластов, и Цаплин — оба были из крестьян. В ХХ веке они создали абсолютно небесное и одновременно земное искусство, которое и представляет со всей полнотой русский мир. Этим они вознеслись и над "Черным квадратом", и над живописью