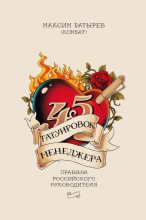- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (73) »
мой друг бывал чрезвычайно, но и робок тоже не в меру — панически боялся начальства. Тогда же на гороховое поле прислали нам инструктора из райкома, самоуверенного невежду, который двух слов правильно связать не мог. Все сидели на рулонах гороха, слушали его, иронически улыбаясь. Рейн стоял навытяжку, чуть ли не комически трепеща. Может быть, не "чуть ли", а просто "комически"? Нет, видно, еще до института был он если не бит, то крепко пуган и так же крепко об этом молчал. Но иногда ради публики или из-за неловкости шел на демарш. При мне замдекана, тот самый злющий Павлюк, к которому Рейн обратился: "Хозяин", — шипел на него, аж побледнев:
— Вы не на даче, не в деревне, вы в деканате в конце-то концов!
А как было к нему обращаться — "товарищ"?
Можно ли было дружить с таким человеком? В одном окопе, как говорится, не посидишь, в разведку вместе не пойдешь. Но я и не хотел сидеть в окопе и ходить в разведку. Я хотел читать и писать свежие, неслыханные стихи, хотел знать больше о литературе, до самозабвения хотел слушать и говорить о поэзии, а для этих занятий лучшего компаньона, чем Рейн, право же, не было и до сих пор не найти!
Да он и сам гудел из своей "бочкообразной груди" стихами — непрерывно и зачастую невпопад с обстоятельствами. Вот он в том же колхозе мешком сидит на спине тощего мерина. Вокруг — поле мерзлой грязи, из которой мы выковыриваем картошку. Рейн читает вслух "Улялаевщину" Сельвинского, воспроизводя самые героические и разбойные ритмы поэмы:
Слушают его только двое (не считая мерина): однокурсница да я, не раз возглашавший, будучи по-своему зачарован этим Паганини без скрипки:
— Куда смотрят наши девицы?
Вот одна и смотрит, когда мы плывем по Неве втроем на речном трамвайчике: Петропавловка, Василеостровская стрелка, Острова, барокко, ампир, купы деревьев… Рейн при этом декламирует, конечно, не Пушкина, что было бы тавтологией, не Агнивцева и Г. Иванова (которых мы еще не знаем), а почему-то Багрицкого:
Багрицкий — потому что романтика и южная школа, которой оказался привержен на всю жизнь. На какую бы тему ни были его стихи, всегда в них можно безошибочно определить, почем нынче помидоры на рынке. Конкретность, напор, подъем — вот что ему нравится в книжных сборниках 20-х годов, которые он попеременно носит с собой в кармане френча и при первой же возможности читает вслух. День проводит с Багрицким, читая мне неслыханный, ошеломляющий и мутный "Февраль", день — с Антокольским, Сельвинским, Луговским… Откуда такая богатая коллекция? Что-то он глухо и неодобрительно говорит о домашнем собрании первого отчима, о книжных развалах в Лавке писателей и у букинистов на Литейном и с восторгом — о барахолке:
— Ты даже не знаешь, где она находится? Едем туда в ближайшее же воскресенье!
Барахолка 50-х годов устраивалась по воскресеньям на Лиговке, на пустырях и дворовых площадках, располагаясь в глубь квартала от травянистого склона Обводного канала: пыльное, грязное, даже вонючее, но и яркое, пестрое зрелище. Инвалиды раскладывали на газетке свинченные медные краны, бабки трясли полами полупальто, демонстрируя прочность подкладок, другие негоцианты, наоборот, ни за что не показывали товар, ожидая лишь верного покупателя. Это был действительно свободный, хотя и с сильной опаской и воровской оглядкой, рынок! Ради курьезу мы пошли посмотреть ряд искусств и ремесел: крашеные глиняные коты-копилки с выпученными глазами, пронзительные клеенки с красавицами и лебедями, настенные коврики с прудами и зЗмками в лунном свете…
— И это — искусство? — спросил Рейн риторически крепкую сорокалетнюю тетку, продавщицу этого добра. Та, не смутясь, отчеканила:
— Настоящее искусство, молодой человек, которое за килЧметр видать!
А вот и книжники. Сколько крамолы лежит в открытую, это ж невероятно! Воспоминания генерала Деникина, рижские издания эмигрантов. Но — дорого, а денег мало. Наконец я покупаю "Розу и крест" Блока отдельным изданием, Рейн — "Пушторг" Сельвинского.
Найдя во мне, что называется, "благодарного слушателя", Рейн однажды у себя дома буквально зачитал меня стихами. Он читал вперемежку, на выбор из Тихонова и Антокольского, и добавлял что-то еще, звучавшее чуть иначе и ближе.
Я понял, что он меня мистифицирует, но вдруг до слез взволновался строчкой "Этой ночью меня приговорили к бессмертью…". Волосы встали дыбом на голове, сердце запрыгало в такт, и я произнес:
— Женя, это же ты… Это же гениально.
Вопрос "По ком колыбельная?" немедленно воскрешает другой: "По ком звонит колокол?", что тут же вызывает имена Донна, Хемингуэя и Бродского, сразу связывая проповедь, роман, большую элегию и заодно — эту колыбельную, а также времена, пространства и наши увлечения воедино. Надо ли говорить, что Анатолий Генрихович все связи мгновенно уловил, тем более что они были намечены в его "Колыбельной", и он поблагодарил меня учтиво и просто. А потом голос его как-то по-давнишнему дрогнул, и он спросил:
— Хочешь, почитаю совсем новое?
Он стал читать стихотворение "Караванная, 22" — это был адрес его детства: в двух шагах от Невского, у манежа, кинотеатра и цирка. В нем повторялся образ, просто просящийся в заглавие книги — львы и гимнасты, входящие в цирковой подъезд. Яркие и упругие, золотые и клетчатые, как метафоры Юрия Олеши.
Он кончил читать, возникла секундная пауза, он ждал моей реакции.
— Ну что ж. Я бы сказал "гениально", если бы ты уже не слышал этого раньше, — обронил я заветное слово, тут же его как бы и
— Вы не на даче, не в деревне, вы в деканате в конце-то концов!
А как было к нему обращаться — "товарищ"?
Можно ли было дружить с таким человеком? В одном окопе, как говорится, не посидишь, в разведку вместе не пойдешь. Но я и не хотел сидеть в окопе и ходить в разведку. Я хотел читать и писать свежие, неслыханные стихи, хотел знать больше о литературе, до самозабвения хотел слушать и говорить о поэзии, а для этих занятий лучшего компаньона, чем Рейн, право же, не было и до сих пор не найти!
Да он и сам гудел из своей "бочкообразной груди" стихами — непрерывно и зачастую невпопад с обстоятельствами. Вот он в том же колхозе мешком сидит на спине тощего мерина. Вокруг — поле мерзлой грязи, из которой мы выковыриваем картошку. Рейн читает вслух "Улялаевщину" Сельвинского, воспроизводя самые героические и разбойные ритмы поэмы:
Д'ехали казаки,д'ехали казаки,д'ехали казаки,чубы по губам.
Слушают его только двое (не считая мерина): однокурсница да я, не раз возглашавший, будучи по-своему зачарован этим Паганини без скрипки:
— Куда смотрят наши девицы?
Вот одна и смотрит, когда мы плывем по Неве втроем на речном трамвайчике: Петропавловка, Василеостровская стрелка, Острова, барокко, ампир, купы деревьев… Рейн при этом декламирует, конечно, не Пушкина, что было бы тавтологией, не Агнивцева и Г. Иванова (которых мы еще не знаем), а почему-то Багрицкого:
Эх, Черное море,
вор на воре…
— Ты даже не знаешь, где она находится? Едем туда в ближайшее же воскресенье!
Барахолка 50-х годов устраивалась по воскресеньям на Лиговке, на пустырях и дворовых площадках, располагаясь в глубь квартала от травянистого склона Обводного канала: пыльное, грязное, даже вонючее, но и яркое, пестрое зрелище. Инвалиды раскладывали на газетке свинченные медные краны, бабки трясли полами полупальто, демонстрируя прочность подкладок, другие негоцианты, наоборот, ни за что не показывали товар, ожидая лишь верного покупателя. Это был действительно свободный, хотя и с сильной опаской и воровской оглядкой, рынок! Ради курьезу мы пошли посмотреть ряд искусств и ремесел: крашеные глиняные коты-копилки с выпученными глазами, пронзительные клеенки с красавицами и лебедями, настенные коврики с прудами и зЗмками в лунном свете…
— И это — искусство? — спросил Рейн риторически крепкую сорокалетнюю тетку, продавщицу этого добра. Та, не смутясь, отчеканила:
— Настоящее искусство, молодой человек, которое за килЧметр видать!
А вот и книжники. Сколько крамолы лежит в открытую, это ж невероятно! Воспоминания генерала Деникина, рижские издания эмигрантов. Но — дорого, а денег мало. Наконец я покупаю "Розу и крест" Блока отдельным изданием, Рейн — "Пушторг" Сельвинского.
Найдя во мне, что называется, "благодарного слушателя", Рейн однажды у себя дома буквально зачитал меня стихами. Он читал вперемежку, на выбор из Тихонова и Антокольского, и добавлял что-то еще, звучавшее чуть иначе и ближе.
Я понял, что он меня мистифицирует, но вдруг до слез взволновался строчкой "Этой ночью меня приговорили к бессмертью…". Волосы встали дыбом на голове, сердце запрыгало в такт, и я произнес:
— Женя, это же ты… Это же гениально.
Молодой Найман
Я хотел назвать эту главу "Ранний Найман" по аналогии с предыдущей, но подумал, к какому же периоду "жизни и творчества" отнести его вчерашний звонок из Нью-Йорка? Я накануне оставил на автоответчике в том доме, где он гостит, мою стихотворную реплику на его "Колыбельную внучке":Видно, верному — медленным быть велено:
сквозь жизнь доехало только сейчас…
Вот и не спрашивайте, по ком колыбельная, —
она ведь — по любому из нас.
Вопрос "По ком колыбельная?" немедленно воскрешает другой: "По ком звонит колокол?", что тут же вызывает имена Донна, Хемингуэя и Бродского, сразу связывая проповедь, роман, большую элегию и заодно — эту колыбельную, а также времена, пространства и наши увлечения воедино. Надо ли говорить, что Анатолий Генрихович все связи мгновенно уловил, тем более что они были намечены в его "Колыбельной", и он поблагодарил меня учтиво и просто. А потом голос его как-то по-давнишнему дрогнул, и он спросил:
— Хочешь, почитаю совсем новое?
Он стал читать стихотворение "Караванная, 22" — это был адрес его детства: в двух шагах от Невского, у манежа, кинотеатра и цирка. В нем повторялся образ, просто просящийся в заглавие книги — львы и гимнасты, входящие в цирковой подъезд. Яркие и упругие, золотые и клетчатые, как метафоры Юрия Олеши.
Он кончил читать, возникла секундная пауза, он ждал моей реакции.
— Ну что ж. Я бы сказал "гениально", если бы ты уже не слышал этого раньше, — обронил я заветное слово, тут же его как бы и
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (73) »