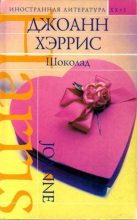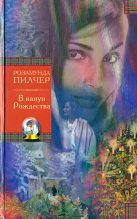Дескриптивная адекватность и объяснительная адекватность
Говорят, что усвоение языка составляет «фундаментальную эмпиристскую проблему» современных лингвистических исследований. Дабы подчеркнуть важность этой проблемы, Хомский в 1960-е гг. ввел техническое понятие объяснения, подогнанного под усвоение языка (обсуждение см. в (Chomsky 1964, 1965)). Принято считать, что анализ отвечает требованию «описательной адекватности» в том случае, если он корректно описывает лингвистические факты, подспудно известные взрослым носителям языка; если он при этом объясняет процесс овладения этими знаниями, то считается, что он отвечает более высокому требованию «объяснительной адекватности». Описательная адекватность может достигаться фрагментом конкретной грамматики, который успешно моделирует фрагмент взрослого языкового знания; объяснительная адекватность достигается тогда, когда можно показать, что описательно адекватный фрагмент конкретной грамматики выводится из двух ингредиентов: универсальной грамматики с ее внутренней структурой, аналитическими принципами и т. п. и определенного опыта, языковых фактов, которые обычно доступны ребенку, постигающему язык в период его усвоения. Это так называемые «первичные языковые данные», ограниченное и индивидуально варьирующее множество высказываний, свойства и структурное богатство которых можно оценить путем корпусных исследований. Если можно показать, что корректная грамматика выводится из УГ и выборки данных, которые логично принять как доступные ребенку, то процесс усвоения языка получает объяснение. Возвращаясь к нашему конкретному примеру с кореферентностью, описательная адекватность была бы достигнута гипотезой, корректно улавливающей интуитивные суждения носителя языка по поводу (1)-(5), скажем, гипотезой, ссылающейся на иерархический, а не линейный принцип. Объяснительная же адекватность достигалась бы гипотезой, выводящей корректное описание фактов из общих врожденных законов, скажем, из «принципов связывания» Хомского или «принципов интерфейса синтаксиса и прагматики» Рейнхарта.
В 1960-1970-е гг. между потребностями описательной и объяснительной адекватности возникло определенное напряжение, поскольку эти две цели толкали исследования в противоположных направлениях. С одной стороны, потребности описательной адекватности, казалось, требовали постоянного обогащения аппарата описания: со все возрастающим расширением эмпирической базы открытие новых явлений в естественных языках, разумеется, побуждало исследователей постулировать новый аналитический инструментарий для обеспечения адекватных описаний. К примеру, когда исследовательская программа впервые была распространена на романские языки, попытки проанализировать определенные глагольные конструкции привели к постулированию новых формальных правил (трансформации образования каузатива и более радикальные формальные приемы, такие как переразложение, вторичный анализ (reanalysis), объединение простых предложений (clause union) и т. д. (Каупе 1975; Rizzi 1976; Aissen and Perlmutter 1976)), что, как представлялось, требовало расширения инвентаря правил, допускаемых универсальной грамматикой. Аналогичным и еще более радикальным образом первые попытки анализа языков с более свободным порядком слов привели к постулированию иных принципов фразовой организации, как во многих работах по так называемым «неконфигурационным» языкам Кена Хэйла, его сотрудников и многих других исследователей (Hale 1978). С другой стороны, сама природа объяснительной адекватности, как она формально определялась, требует максимально жестких ограничений и постулирования сильного межъязыкового единообразия: в тех эмпирически установленных условиях времени и доступа к данным, которыми располагает ребенок, задача усвоения языка будет выполнимой лишь в том случае, если универсальная грамматика предлагает относительно немного вариантов анализа для любой совокупности данных. С самого начала было ясно, что только ограничительный подход к универсальной грамматике позволит реально достигнуть объяснительной адекватности (о статусе объяснительной адекватности в рамках Минималистской программы см. гл. 4 и Chomsky 2001 b).
Принципы и параметры универсальной грамматики
Подход, сумевший разрешить это напряжение, возник в конце 1970-х гг. Он основывался на идее о том, что универсальная грамматика представляет собой систему принципов и параметров. В полной мере этот подход впервые раскрылся на неформальных семинарах, которые Хомский провел в пизанской Scuola Normale Superiore во время весеннего семестра 1979 г. Из этих семинаров выросла серия лекций, представленных сразу после конференции Организации лингвистов-генеративистов Старого Света (Generative Linguists of the Old World — GLOW) в апреле 1979 г. и известных как Пизанские лекции. Сам подход был затем отточен в курсе Хомского осенью 1979 г. в Массачусетском технологическом институте и далее изложен в исчерпывающем виде в монографии (Chomsky 1981).
Предыдущие версии порождающей грамматики принимали унаследованный из традиционных грамматических описаний взгляд о том, что конкретные грамматики суть системы свойственных конкретному языку (далее — лингвоспецифичных) правил. В рамках этого подхода есть правила формирования непосредственных составляющих и трансформационные правила, специфичные для каждого