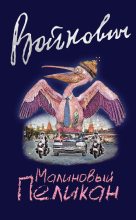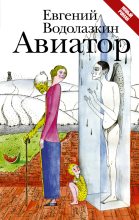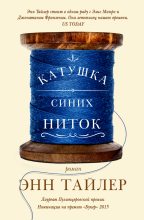- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (89) »
с товарным составом к платформам, стоявшим напротив нашего вагона. Обычно в самую последнюю минуту к месту сцепления подныривал сцепщик и ловко накидывал толстую металлическую петлю на крюк. И вдруг вместо него, в ту самую минуту, когда буфера должны были удариться друг о друга, откуда-то выбежала женщина, хотела проскочить меж буферов и не успела. Ее стиснуло тарелками, и она показала мне язык...
Я закричал.
Тогда же произошел еще один случай, оставивший след на всю мою жизнь. В одну из ночей поезд так дернуло, что я полетел с верхней полки. Не успел я прийти в себя, разобраться в темноте, как над головой раздался оглушительный рев, — это был встречный паровоз. Я в ужасе заметался, закричал, заплакал. Мать подняла меня, уложила, но я долго не мог успокоиться, все вскрикивал и наутро проснулся заикой. Я чмокал, морщился, мычал и никак не мог произнести начало слова. Я бы, наверно, вырос угрюмым, нелюдимым, будь у меня замкнутый характер. Но веселье било через край, я любил смеяться, — уж очень был смешлив, — и муки от заикания как-то глубоко не касались моего самолюбия. Порой я даже сам смеялся над своим заиканием. Конечно, не так уж взахлеб, но усмешечка была. Чтоб легче начинать фразу, я придумал и к месту и не к месту ставить словечко: «слышь». Скажем, иду гулять. То я говорю: «Слышь, мама, иду гулять!» Надо отца позвать обедать: «Слышь, папа, иди обедать!» Долго не отпускало меня заикание. Особенно если был в центре внимания, то уж тут совсем переставал говорить. И только с возрастом, внушая, что никакой я не заика, освободился от этого мучительного дефекта речи. Настолько, что даже смог выступать на пленумах и активах с большими речами.
Как добирались со станции до Полтавки, выпало из памяти. Помню, был уже вечер, и мы в какой-то просторной избе, и хозяйка, толстая тетка, сует мне в руки круглую горячую лепешку с картошкой и ласково называет ее «шанежкой».
В другой раз вижу себя, сидящего на бревнах с деревенскими ребятишками, играющего в пальчиковое колечко». Нигде, кроме Полтавки, такой игры я больше не встречал. Надо было сомкнуть указательный палец с большим так, чтобы получился кружок, и в этот кружок опустить слюну, но так, чтобы она не задела пальцев. Кому удавалось, тот получал кусочек черной серы. Ее можно было бесконечно жевать, как американскую резинку, а если надоедало, — приклеить к ножке стола или к стене, чтобы потом при желании отодрать и жевать снова, сколько душе угодно. Вкуса в ней не было, но почему-то не только ребята, но и взрослые жевали ее.
Тот же, кто задевал «пальчиковое колечко», изгонялся из игры. Меня выгнали. Братишку тоже. И хотя мы не мечтали о черной сере, но после позорного изгнания все утро другого дня упражнялись в плевках и к вечеру достигли такого совершенства, что с первого же раза получили награду и понеслись домой к матери, чтобы и ей дать попробовать серы.
— Что это еще за гадость? — брезгливо сказала она.
— Да ты что, Михайловна, — тут же вмешалась хозяйка, — это же березовая сера. Ты не бойси, не бойси, не худая она. Вот, смотри-ка‚— и, взяв у меня серу, стала жевать. — Хорошая, попробуй, — и, вынув изо рта, предложила матери...
Вспоминается много ненужного, какие-то мелочи, и среди них дни, когда в нашем доме тесно от людей. Я вижу отца в кожаной куртке, перехваченной в поясе широким ремнем, и на ремне в желтой кобуре наган. Замечаю встревоженные глаза матери, хмурые лица петрокоммуновцев. И среди них — дядю Костю Дорофеева. Однажды он пришел утром, когда мы с братом были еще в постели. Поглядел на нас, улыбнулся, показав длинные желтые зубы, как наганные патроны в обойме, потянул носом вкусный запах из кухни и складно сказал:
— Нынче праздник, воскресенье, вам лепешек напекут, и помажут, и покажут, а поесть-то не дадут.
И я сразу поверил ему, потому что было воскресенье и мать пекла лепешки, и я с нетерпением ждал, когда они будут готовы, и мне так стало обидно, что я чуть не заплакал.
Он, наверно, часто бывал у нас, иначе бы я его не запомнил. По крайней мере, не связал бы с тем, кого в розвальнях провезли по улице зимним морозным днем. Мы играли в «попа-загонялу», когда я заметил эти страшные сани.
Я еще не знал, кто в них, бежал сбоку и со страхом глядел на торчащие из-под мешка босые твердые ноги и думал о том, что им должно быть холодно в такой мороз. И тут я узнал, что в розвальнях лежит дядя Костя Дорофеев.
Его нашли верстах в пяти от Полтавки, посреди дороги, с распоротым животом, полным пшеницы.
Потом мы с братом, робея, заглядывали в баню. Его отнесли туда, чтобы он оттаял, чтобы можно было положить в гроб. Я и сейчас вижу смутно белеющее тело на полке с поднятыми, скрюченными руками...
Хоронили его в ясный морозный день. Красный, словно окрашенный кровью, гроб несли на плечах. Впереди с непокрытой головой шел отец. Ветер забивал ему в волосы снег. На медных трубах играли, бог весть какой судьбой занесенные в Полтавку, два музыканта. Почерневшие от холода, они согревали руками медные наконечники труб. Непередаваемо грустные звуки разносились по всей Полтавке, и, казалось, от них еще сильнее мороз и глубже скорбь.
Потом не раз приходилось мне слышать этот шопеновский марш, так гениально выразивший трагедию расставания живых с уходящими в небытие.
С этого дня я стал бояться степи. Оттуда привезли Дорофеева. И со страхом глядел на нее. Начиналась же она сразу за селом — ровная, снежная, с темными шарами перекати-поля.
Еще страшнее она для меня стала, когда оттуда же, из ее глубин, привезли убитого парня. Это был первый комсомолец в Полтавке, работавший в райпродкоме. Его нашли голого, привязанного к столбу, изрубленного шашкой.
И снова отец шел впереди, с непокрытой головой. Нес, вместе с другими, красный гроб. И снова играли два трубача. И всю дорогу до кладбища кричала и стонала мать убитого...
Помню больного отца. Он в постели. На улице весна, и я забежал на минутку, но что-то удержало меня, — может, изменившееся лицо отца или что-то было в его взгляде.
Я подошел к нему:
— А что у тебя болит?
Он потрепал меня по волосам:
— Иди, играй...
Это было в Кургане. На станции готовился к отправке эшелон хлеба. К вагонам из риг и амбаров подвозили все новый и новый хлеб, собранный в окрестных селах и деревнях. Всю ночь шла погрузка. Отец, вместе со всеми, носил на спине пятипудовики. Он был силен, мог по два мешка таскать через пути от подводы к вагону. И когда уже все было погружено и паровоз стоял под парами и вот-вот должен был тронуться в путь, к отцу подвели двоих — старика и парня. Это были местные. В нескольких верстах от станции они разбирали путь, чтобы пустить состав с хлебом под откос. Старик
* * *
Это было в Кургане. На станции готовился к отправке эшелон хлеба. К вагонам из риг и амбаров подвозили все новый и новый хлеб, собранный в окрестных селах и деревнях. Всю ночь шла погрузка. Отец, вместе со всеми, носил на спине пятипудовики. Он был силен, мог по два мешка таскать через пути от подводы к вагону. И когда уже все было погружено и паровоз стоял под парами и вот-вот должен был тронуться в путь, к отцу подвели двоих — старика и парня. Это были местные. В нескольких верстах от станции они разбирали путь, чтобы пустить состав с хлебом под откос. Старик
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (89) »