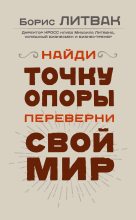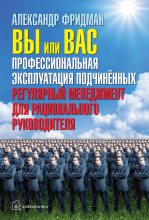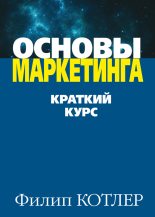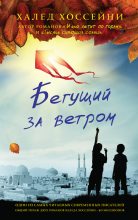готовил издание "Лирических стихотворений" Фета, он писал своему соредактору, что необходимо: "Удержать порядок, в котором расположены были стихотворения, потому что этот порядок и сохранился в памяти читателей, и имел некоторое значение у автора. Напр<имер>, в третьем выпуске "Муза" прямо примыкает к предисловию. Если же расположить строго хронологически, то придется перетасовать стихотворения и поставить впереди то, что писано гораздо раньше "Вечерних огней" [28].
"ЧИСТОТА СЛУЖЕНИЯ"
"Вечерние огни" (в совокупности всех выпусков), как первое, подготовленное при жизни Фета собрание его поэтических сочинений, должны были достаточно полно представить читателю и эстетическую позицию автора. Этим, в частности, объясняется включение в первый выпуск "Вечерних огней" перевода трактата Горация "О поэтическом искусстве. К Пизонам", а в третий — диалога "Соловей и роза", написанного в 1847 году, вошедшего в издание 1850 года и наполовину сокращенного для "Вечерних огней". Отмечая в Предисловии к третьему выпуску несовершенство этого произведения, Фет пишет: "Тем не менее решаемся сохранить его, находя, что ни в одном из наших молодых произведений с такою ясностью не проявляется направление, по которому постоянно порывалась наша муза" [29] (курсив мой. — Л. Р.).
Перевод Горация был завершен Фетом еще в 60-х годах, набран в "Русском вестнике", но в печати не появился [30]. Между тем и через двадцать с лишним лет (первый выпуск "Вечерних огней" вышел в 1883 году) обращение к труду Горация, как полагал Фет, сохраняло свою актуальность в литературной борьбе. В самом начале предисловия к переводу Фет говорит о главном — о соотношении в сочинении Горация мыслителя и поэта, о том, что дидактика противоречит искусству и что идея должна возникать перед читателем лишь в результате создания художественной картины (позиция та же, что и в статье "О стихотворениях Ф. Тютчева"): "Гораций был настолько мыслитель, что, решившись раз представить теорию поэзии, не допустил бы такого беспорядка в изложении, какой представляет "Письмо к Пизонам". С другой стороны, он был весьма опытный и даровитый художник-поэт и не мог, конечно, предпринять в стихотворной форме такой дидактический труд. Фантазия его буйствует. Он как бы не в силах совладеть с налетающими на него образами (без этого всякий лиризм мертвечина; не Горацию было не знать этого); и если он в этом Письме, как и везде, является назидательным и полезным, то это одно из его достоинств, но никак не цель" [31].
В комментариях к переводу Фет прямо полемизирует с социологическим подходом к искусству: "…часто внимание публики увлечено драматическим произведением, имеющим только внешние признаки истинно художественной вещи. Грация и красота не чувствуются в целом, не властвуют им, а проступают местами, как бы пятнами, и художник, не понимая этого первейшего требования искусства, воображает, что сделал все, достигнув дагерротипической верности нравов. Как не сказать и тут, что Гораций словно метит этим камнем в огород нашей, так называемой натуральной школы". Далее Фет вновь подчеркивает, что так называемая "польза" искусства состояла всегда в нравственном влиянии его как искусства: "Под именем пользы Гораций преимущественно разумеет те общие высоконравственные изречения, которыми блистала древняя драма и которые были только следствием ее высокого строя и внутреннего богатства, а никак не целью. (То же у Шекспира.)" [32].
Наконец, говоря о значении поэзии как важнейшего средства на пути к цивилизации и опираясь на еще одно «многознаменательное место» в трактате Горация, Фет заключает: "Гораций, очеркивая догомерическое проявление поэзии, ясно указывает на высокое значение, которое придавали древние этому вечному элементу человеческого духа, до того родственного элементу религиозному, что от Орфея до Лютера люди, как только начнут молиться и возвышаться духом, — начинают петь, и наоборот. Действительно, нужна почти нечеловеческая грубость и тупость, чтобы после всего этого отвергать благотворное действие искусства или приискивать ему еще какой-то внешней полезности" [33].
Адресат этих строк очевиден: это воинствующие противники "чистого искусства", так называемые "утилитаристы". Фет продолжал: "Лучшие проявления духа до того в корне своем срослись с поэтическим восторгом, что все это вывело людей из троглодитов в состояние гражданского общества, как то: религия, гражданские законы, социальные отношения, политическое устройство, науки и т. д., у всех первобытных народов выражались в поэтической форме стихами, и поэты — сеятели всех этих благ — причислены к лику богов" [34].
Итак, по убеждению Фета, поэзия — главнейший двигатель духовного и общественного развития. С этим несомненно связана его исключительная по интенсивности работа над переводами произведений мировой классики (вопрос о качестве переводов и их принципах — тема отдельная, которая обсуждается в переписке Фета с Полонским).
Предписывать искусству задачи "внешней полезности", с точки зрения Фета, — абсурдно. Со времени 60-х годов, когда был завершен перевод Горация и написаны комментарии к нему, позиция Фета осталась неизменной. Предисловие к третьему выпуску "Вечерних огней" (1889 года) об этом свидетельствует. Именно началом эпохи реформ датирует Фет свое резкое расхождение с демократической критикой: "Быть писателем, хотя бы и лирическим поэтом, по понятию этих людей, значило быть скорбным поэтом. Так как в сущности люди эти ничего не понимали в деле поэзии, то останавливались только на одной видимой стороне дела: именно на его непосредственной бесполезности" [35].
Предисловие Фета — последняя, завершающая публичная декларация эстетики "чистого искусства". Здесь много принципиально важных заявлений. Прежде всего причину раскола в русской поэзии, начиная с 60-х годов, Фет видит в позиции демократического лагеря. Дважды появляется слово "остракизм", которому подвергалось "чистое искусство". Свою же позицию Фет убежденно считает оборонительной от тех, кто требует от поэзии непосредственной пользы: "Понятно, до какой степени им казались наши стихи не только пустыми, но и возмутительными своей невозмутимостью и прискорбны отсутствием гражданской скорби". И далее: "Слова ненависти, в течение стольких лет раздававшиеся вокруг наших стихов, и не снятый с них и поныне остракизм были бы понятны, если бы среди единогласного тенденциозного хора они, подобно стихам Тютчева и гр. Алексея Толстого, звучали порицанием господствующего направления; но ничего подобного в них не было, и они подверглись гонению, очевидно, только за чистоту своего служения" [36]. В принципе это