- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (205) »
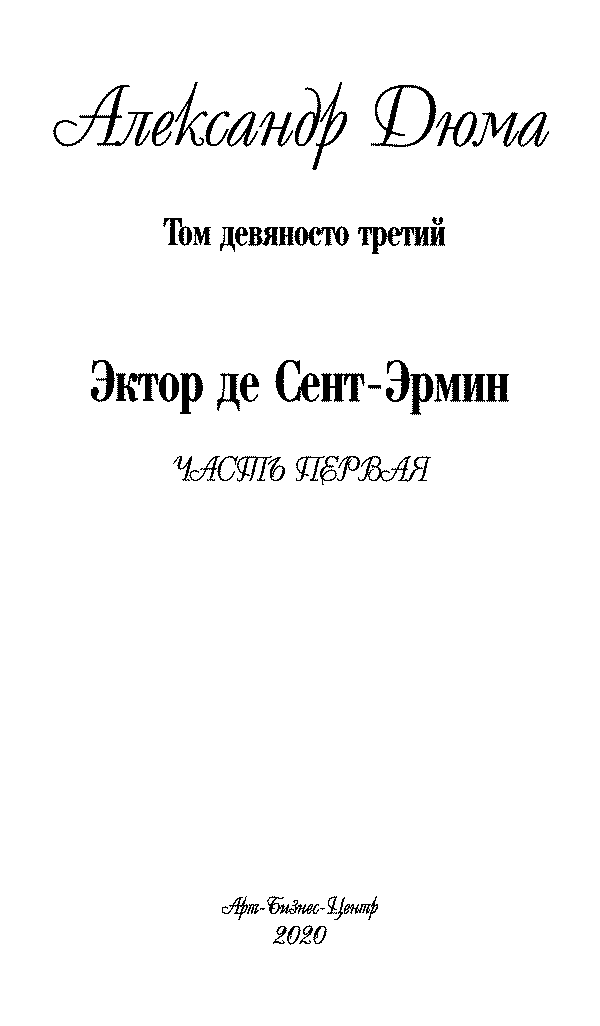
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I ДОЛГИ ЖОЗЕФИНЫ
— Ну вот мы и в Тюильри, — сказал первый консул Бонапарт своему секретарю Бурьенну, вступая во дворец, где Людовик XVI сделал предпоследнюю остановку на пути от Версаля к эшафоту, — дело за тем, чтобы здесь остаться. Эти вещие слова были произнесены около четырех часов пополудни 30 плювиоза VIII года (19 февраля 1800 года). Ровно год спустя после того как первый консул обосновался в Тюильри, день в день, и начинается настоящий рассказ, который служит продолжением нашей книги «Белые и синие», заканчивающейся, напомним, бегством Пишегрю из Синнамари, и нашего романа «Соратники Иегу», завершающегося казнью Рибье, Жайа, Валансоля и Сент-Эрмина. Что же касается генерала Бонапарта, который тогда был всего лишь генералом, то мы покинули его в тот момент, когда по возвращении из Египта он ступил на французскую землю. После 24 вандемьера VII года (16 октября 1799 года) он много чего сделал. Прежде всего, он совершил переворот 18 брюмера, положив начало великой тяжбе, которая в суде первой инстанции завершилась его победой, но все еще длится в апелляционном суде потомства. Он перешел Альпы, подобно Ганнибалу и Карлу Великому. С помощью Дезе и Келлермана он в конечном счете выиграл битву при Маренго, в которой сначала потерпел поражение. Он заключил Люневильский мир. И, наконец, в тот самый день, когда по его приказу Давид установил в Тюильри бюст Брута, он снова ввел в употребление обращение «госпожа». Упрямцам еще вольно говорить «гражданин», но лишь мужланы и грубияны по-прежнему используют обращение «гражданка». В Тюильри, само собой разумеется, бывают лишь благовоспитанные люди. Итак, сегодня 30 плювиоза IX года (19 февраля 1801 года), и мы находимся во дворце первого консула Бонапарта, в Тюильри. Дадим нынешнему поколению, которое отделяют от того времени уже две трети столетия, представление о том, как выглядел кабинет, где готовилось столько великих событий, и посредством пера изобразим, насколько нам это удастся, портрет легендарного человека, задумавшего не только изменить Францию, но и перевернуть весь мир.* * *
Это большая комната с белыми стенами и золотой лепниной, где стояло два стола. Один из них, чрезвычайно красивый, предназначался для первого консула; сидя за этим столом, он располагался спиной к камину, а по правую руку у него было окно. Опять же справа, в проходной комнате, находился Дюрок, его доверенный адъютант на протяжении последних четырех лет. Из кабинета, который он занимал, можно было пройти в комнату Ландуара, добросовестного канцелярского рассыльного, пользовавшегося полным доверием первого консула, и в главные покои, окна которых выходили во двор. Когда первый консул работает за этим столом, сидя в кресле, которое украшено львиной головой и правый подлокотник которого он в раздражении столько раз увечил своим перочинным ножом, перед глазами у него находится огромный книжный шкаф, сверху донизу забитый папками. Немного правее, рядом со шкафом, находится вторая главная дверь кабинета. Она ведет непосредственно в парадную спальню. Из этой спальни попадаешь в главный приемный зал, на потолке которого Лебрён написал портрет Людовика XIV в парадном одеянии. Другой художник, определенно уступавший в даровании первому, кощунственно украсил парик великого короля трехцветной кокардой, которую Бонапарт, проявив снисходительность, оставил на месте, чтобы иметь право говорить посетителям, указывая на это несоответствие: «Что за болваны эти деятели Конвента!» Напротив единственного окна, которое освещает эту большую комнату и выходит в сад, находится гардеробная, примыкающая к кабинету консула; в ней некогда располагалась молельня Марии Медичи. Гардеробная эта выходит на небольшую лестницу, ведущую на антресольный этаж, к спальне г-жи Бонапарт. Подобно Марии Антуанетте, с которой у нее было немало сходных черт, Жозефина не выносила больших покоев. И потому она устроила себе в Тюильри небольшое уединенное пристанище, напоминавшее то, какое Мария Антуанетта устроила себе в Версале. Как правило, именно через эту гардеробную (по крайней мере, в то время) первый консул по утрам входил в свой кабинет. Мы говорим «как правило», поскольку именно в Тюильри первый консул впервые завел себе собственную спальню, отдельную от спальни Жозефины, спальню, в которую он удалялся, если возвращался слишком поздно или же когда вечером какой-нибудь повод для ссоры — а такие поводы, хотя еще и не слишком часто, уже стали время от времени возникать — приводил к спору, а спор этот влек за собой супружескую размолвку. Второй стол, намного скромнее, стоял у окна. Секретарь, работавший за ним, видел вдали густую листву каштанов, однако ему нужно было привстать, чтобы разглядеть тех, кто прогуливался в саду. Он сидел боком к первому консулу, так что ему достаточно было лишь слегка повернуть голову, чтобы увидеть его лицо. Дюрок редко бывал в своем кабинете, и потому как раз там секретарь принимал посетителей. Секретарем этим был Бурьенн. Самые искусные скульпторы и художники соперничали в даровании, стараясь запечатлеть на полотне или высечь в мраморе черты Бонапарта, а позднее черты Наполеона. Но люди, близко знавшие его, хотя и замечают в статуях и портретах определенное сходство с этим выдающимся человеком, говорят, что по-настоящему точного изображения ни первого консула, ни императора не существует. Мастерам удалось с помощью кисти или резца изобразить массивную голову первого консула, его великолепный лоб, волосы, приглаженные на висках и ниспадающие на плечи, смуглое лицо, худощавое и удлиненное, и неизменно задумчивый вид. Им удалось воспроизвести лицо императора, напоминавшее лик с античной медали, передать болезненную бледность его щек, указывавшую на преждевременную смерть, изобразить волосы цвета воронова крыла, оттенявшие матовую белизну щек; но ни резец, ни палитра не смогли передать переменчивый огонь его глаз и мрачное выражение его взгляда, когда тот цепенел. Взгляд этот молниеносно повиновался его воле. Никто в гневе не бывал страшней его; никто в добром расположении духа не бывал ласковей его. У него словно было особое выражение лица для каждой мысли, волновавшей его душу и сменявшей одна другую. Он был небольшого роста, едва достигавшего пяти футов трех дюймов, и тем не менее Клебер, который был выше его на голову, сказал, опустив руку ему на плечо:
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (205) »