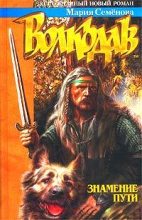— Погоди ты, куда вперед меня? — сказала тетя Катя, отпихивая ногой Томика. — Опрокинешь ее еще.
— Погоди вставать, рано тебе, — сказала она мне. — А ну-ка дай я тебя уложу.
Тетя Катя подошла и подняла меня на руки. Легче, чем я поднимала ведро с картошкой. Томик заскакал рядом, лизнул свесившуюся пятку. Тетя Катя уложила меня на постель, прикрыла по пояс простыней. Томик — ладно, он ничего не понимал, но она тоже была со мной доброй, хотя я сама виновата. От этого стало еще стыднее. Я хотела сказать, что теперь буду слушаться всегда-всегда, но побоялась. Почему-то вдруг подступили слезы, а мне нельзя было плакать. Потому не сказала, и мы все молчали. Я молча чесала Томика за ухом, он молча время от времени лизал мне ладонь, а тетя Катя стояла и молча смотрела на нас, сложив под передником мягкие, пухлые, мозолистые руки.
Я не знала, сколько ей лет. У нее была взрослая замужняя дочь, которая жила где-то далеко на Урале, потому что выучилась и уехала работать инженером на большом заводе, поднимать разрушенное хозяйство страны. Дочери я никогда не видела. Кроме дочери был взрослый сын, который только что вернулся из армии. Сына я еще как видела, его звали Шурка. У него были светлые глаза, дерзкий взгляд, каштановые кудри, которые вились крупными волнами, и яркая нахальная улыбка. Шурка был очень похож на мать, хотя тетя Катя была низенькая и толстая, а он был повыше и худой. Он работал водителем в Коммунхозе, и все его обожали. Мальчишки (за то, что он их время от времени катал в своем грузовике), девчонки (за то же самое, а еще за красоту), раздатчица из столовой и медсестра из лазарета (конечно, тоже за то же)… А уж как сам Шурка смотрел на раздатчицу и на медсестру! Дядя Костя, поймав этот взгляд, грозил ему тем, что в тот момент оказывалось в руке, палкой или шлангом для полива: «Гляди у меня!» А Шурка в ответ смеялся: «Да ладно, батя», — и шел себе дальше, нисколько не испугавшись.
Тетя Катя постояла, потом сказала:
— Погладь его, погладь. Он же тебя и спас.
— Как это?
— А так это. — Она улыбнулась краем губ. — Кинулся тебя вытаскивать. А как ему вытащить, когда ты в трусах? Переполошил всех.
Я представила себе, как захлебнулась бы в воде.
— Ладно, милуйтесь. Пойду, поесть принесу. Небось голодная.
Не дожидаясь ответа, она вышла. А я, не до конца осознав смысл сказанного, обняла его обеими руками за шею и тихонько повыла. Не знаю, от чего. Может быть, от того, что ужасно чесалась голова. Другой пес мог бы не стерпеть, а Томик терпел. Положил мне голову на плечо и дышал возле уха. От его дыхания я успокоилась.
Когда тетя Катя вернулась, мы все еще были обнявшись, и Томик стоял, как изваяние. Наверное, эта картина ей не понравилась, потому что она нахмурилась и опустила лицо. Поставила тарелки на тумбочку в углу, придвинула к койке зеленый табурет и застелила чистой белой тряпкой, которую вынула из кармана передника. Переставила на табурет тарелки. В глубокой был бульон, в мелкой гречневая размазня и три тефтели. Тефтели я любила. Впрочем, я все любила.
Из того же кармана тетя Катя вынула две крупные абрикосины. Тонкокожие, с румяным бочком.
— Первые, — сказала она сурово. — Дядя Костя выбирал. Ешь.
И строго на меня посмотрела. Я испугалась больше, чем раньше. Я подумала, что она сердится. Я сглотнула слюну и отпустила Томика.
— Я больше не буду, — шепотом сказала я. — Честное пионерское.
— Чего не будешь?
Тетя Катя нахмурилась.
— Снимать панаму, чтобы не напекло.
Меня почти не было слышно.
Я сказала так потому, что нарушила запрет, хотя медсестра и воспитатели почти ежедневно объясняли, как опасен солнечный удар. А других причин, почему человек среди бела дня оказался в лазарете, я не смогла бы придумать, даже если бы захотела.
— Про компот-то забыла, — вдруг сказала тетя Катя и повернулась к выходу.
Шарканье ног по дощатому полу показалось чересчур громким. Я опустила глаза, потому что смотреть вниз было легче, чем прямо, и увидела ее ноги — как они развернулись от меня к двери, толстые в щиколотках, обутые в кожаные, местного, артельного пошива тапки, которые там назывались чувяками. Почему-то подумала, что сейчас вот она уйдет и не вернется. Попыталась приподняться, чтобы остановить, ухватить за широкую юбку из темно-синего, вылинявшего и застиранного сатина. Но тяжелая «шапка» перетянула, я навзничь опрокинулась на подушку.
Чувяки остановились.
— Тихо, деточка, — говорила она, вернувшись, когда гладила рядом со мной подушку. — Тихо, деточка, — говорила она, хотя я не плакала.
Ночью я проснулась от холода. Клеенка сквозь простыню прилипла к голой спине и к ногам. Она была мокрая. Голова под бинтами зудела. Открытая створка постукивала о кровать. Кровать вздрагивала, в затылке стучало, будто его долбила ворона. Занавеска над верхней фрамугой шевелилась, будто на нее кто-то дышал. В саду что-то тяжело шелестело и тоже будто дышало. Я снова забыла, где я. Я боялась темноты, всегда боялась. Когда в нашей отрядной спальне от любого моего шевеления под кроватью вздрагивала черная тень, мне точно так же казалось, будто там кто-то есть. «Смотри, смотри, ползет, — веселились мои соседки. — Смотри, щас как схватит!». Они хихикали тихо, чтобы не услышали воспитатели, и, радуясь моему ужасу, рассказывали про Черную Руку, которая появляется сквозь стену, хватает жертву за горло и утаскивает в неизвестность. Я старалась не слушать и смотреть не в темный угол, а в окно на звезды или луну. Но тут, в изоляторе, звезды и луну заслоняли лохматые темные деревья, шевелившиеся от прохладного воздуха. Вдруг и под моей кроватью что-то зашевелилось. Страх взорвался в висках и в макушке, как пучок тоненьких молний: «Вот! Вот она! Значит, в спальне она не появлялась, потому что нас там много, а тут я одна…». Больше, чем мысль о возможной смерти от удушья, меня пугала неизвестность. Да, вот куда Рука уволакивает людей? «Мамочка», — взмолилась я молча.
Ничего удивительного в такой мольбе не было. Божиться у нас запрещалось. Глупые, старорежимные, несоветские, словечки считались постыдными. Но как-то молиться человеку нужно, и мы молились мамочкой, не считая это мольбой и уж тем более не соотнося с неизвестно где находившимися в тот момент матерями. Это было просто удобное слово.
Шевеленье под койкой стало отчетливей,