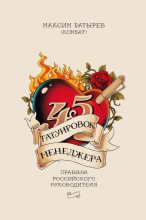- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (139) »
окрашенной бейцем, вроде моего письменного стола, а то и просто составленным из ящиков и прикрытым вязаными кружевными накидками.
Часы хлестко, точно железным прутом о железный противень, ударили десять. Бабушка зашевелилась и заохала на своей кровати, неуклюже приткнутой спинкой к боку буфета. По скрипу пружин я поняла, что она перевернулась на свой огромный живот и качнулась на нем туда-сюда (я все боялась, она когда-нибудь его раздавит). Потом она вжала крупное, трехстворчатое из-за толстых обвисших щек лицо между прутьями кроватной спинки, густо покрытыми казарменной практичной темно-зеленой краской. Оттуда она долгим ревизующим взглядом освидетельствовала мою кровать.
— Проснулся, облом? — спела она на свой другой, неторопливый, воскресно-воспитательный мотив. — Иди чайник ставь. Уже проснулись, сейчас выйдут. Слышишь, рупь-двадцать, рупь-двадцатъ. Это было редкое и ценное мгновение в наших с бабушкой отношениях.
В ее враждебном «сейчас выйдут», в ядовито-наблюдательном «рупь-двадцать» (она разумела раздавшиеся в спальне шаги отца, приволакивавшего ногу после болезни) таилось словно некое сообщничество со мной. Обе мы, ночующие в столовой существа низшего сорта, ущемленные— одна вследствие своего дурного нрава, а другая вследствие «иждивенчества», — как бы уравнивались этим ее тоном вечно обиженной и осуждающей прислуги, которую она неуклонно разыгрывала перед отцом и матерью. И хотя я знала, что меня выселили к бабушке, чтобы по ночам я была под ее надзором, и что она, едва выйдут родители, предаст меня и покажет, что она все же не моего поля ягода, я, продлевая миг, помедлила, пока она не спела с деланной командирской грозностью:
— Десять раз тебе повторять, халда?
Я повиновалась: бесполезно огрызаться «пускай сами ставят» сегодня, когда мне целый день придется быть у них на глазах. Может, и плохо, что сегодня не в школу. Я вышла на кухню. Ее углы отсырели после зимней изморози. Кухню у нас не топили: кому это надо тратить свои дрова на коммунальное помещение! Обмахнув лицо ледяной МОЕЙ, чтобы оно мокро блестело и доказывало, что умывалась, я наполнила над той же глубокой, ржаво-голубенькой, в косых черных отколах раковиной громадный медный чайник и с усилием бухнула его на керосинку, которую зажгла, привычно вдохнув из ее трубы усталого вчерашнего керосинового перегара.
Соседей на кухне не оказалось, но, возвращаясь в комнаты, я встретила в коридоре мать и отца, шедших умываться, и прижалась к стене, пропуская их, ступавших с тяжким, властным, хозяйским раздражением. Они сделали вид, что не замечают меня; я с удовольствием не поздоровалась и поспешила обратно, где небрежно набросила на постель розовое, опять-таки «девичье» покрывало и улеглась поверх него сызнова.
Вернулись родители. Вытянутое нервное лицо матери, иссушенное постоянным недовольством до едкой, страстной праведности, пуще обострилось, когда она увидела меня лежащей на покрывале. Видимо, решив нынче меня не замечать, она все же сорвалась:
— Аэта, — спросила она у бабушки, — эта мамзель, как следует предположить, считает, что залежать можно все: и двойки, и дырявые чулки, и воротничок неподшитый, и, если откровенно, свою неискоренимую порочность? Видите ли, валяется на розовом покрывальце и утопает в мечтах — о прекрасных принцах, естественно… Ей мало, что я стираю и глажу все ее замурзанное белье, так еще, понимаете ли, не свое покрывало замусоливает? Она его покупала, она его стирает?
— Мама, я же еще в школе. Что я могу купить? — бессмысленно напомнила я, хорошо зная ответ.
Мать ответила в третьем лице:
— Ну, между нами, это удача, что она ничего не может купить. Ей бы, вообразите, еще и деньги в руки! Но я попробую выразить то, что имею в виду, повразумительнее, для нее лично. Если она будет хорошо учиться, не грубить, мыть полы, убирать хотя бы за собой, ТО ВСЕ, ЧТО МЫ ДЛЯ НЕЕ ПОКУПАЕМ, ОНА СМОЖЕТ ИСКУПИТЬ.
Стеклянная вилка
Мать употребляла бранные слова редко, только в самых отчаянных случаях. Обычно она действовала убийственными светскими оборотами, игрой слов, склонность к которой я от нее унаследовала. Но у нее была небрезгливая помощница, все за нее договаривавшая до конца. Она уже давно мягко шастала в своих бесформенных шлепанцах, внося из кухни кашу в зеленой кастрюльке и яйца в алюминиевой миске, доставая то посуду из буфета, то масло из морозного междурамья, где возле масленки вечно валялись противные сухие палочки осыпавшейся оконной замазки. — Обломов пакостный — неряха — лень-матушка раньше меня родилась — урод мокшанский — хабалка — дармоедка! — одним духом, в ускоренном опереточном темпе спела бабушка свой воскресный изменнический набор. — Дура старая, — огрызнулась я. — От молодой слышу! — привычной звонкой трелью откликнулась бабушка, по всей видимости даже довольная, что я участвую в дуэте. Но мать сочла необходимым внести в привычную и даже веселую перебранку трагическую ноту. — Мама, простите меня, — надрывно выговорила она и, упиваясь находкой, продолжала: — Простите меня, это моя вина, это я родила вам внучку, которая беспрестанно вас оскорбляет. Родители сели за стол, я тоже. — А завтракать тем, что приготовила старая дура, она, представьте себе, не стесняется!.. — Отстаньте вы все от меня! Странно: отец до сих пор не вмешивался, старался быть по-мужски безучастным, как раньше, до болезни. Но теперь это ему плохо удавалось. Его правый, суженный парезом глаз подергивался, пытаясь, наверное, как следует открыться, в то время как левый, нормальный, неотступно наблюдал меня, ловко перехватывая мое каждое движение. Три года назад отца разбил паралич. У него отнялись тогда правая рука и правая нога и сузился правый глаз. А главное, он потерял речь. Он лежал в те дни в их огромной двухспальной кровати со множеством никелированных шариков и шаров, стоек и перемычек, весело и криво отражавших всю спальню, и не мог сказать ни слова. Мать, ставя ему мерзких толстых пиявок, всовывала в его левую руку карандаш и подставляла картонку, чтобы он хоть написал, что с ним происходит. Но он и писать разучился. Один раз попробовал левой рукой, и у него вышло каракулями: «Я скольжу скольжую сколь зуй». Потом пошли бесконечные больницы с их беспощадно солнечными палатами и хлорированным запахом испражненческих щей, с «говорящими» соседями отца, вечно умилявшимися, что я, еще такая маленькая, живчик этакий, добросовестно отсиживаю вместе с матерью весь визит в их «тяжелых» палатах у койки отца и очищаю ему яблоки. Для своей подвижности, впрочем, я находила утехи и в этих- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (139) »