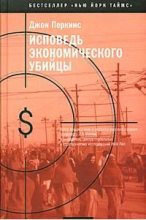- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (129) »
взрывным, со сложным характером, — иногда характер этот доводил подъесаула до бешенства, — в минуты опасности Калмыков делался спокойным и холодным, как кусок льда, наливался силой и готов был часами рубиться с неприятелем. Лицо у него побелело, под глазами образовались сизые тени, желваки напряглись. Калмыков нагнул голову, будто боксер на ринге.
— Этот звук ты слышал, Гриня? — спросил он.
— Этот.
— Это не звук, это стон. Стон человека, который вот-вот должен умереть. Уже концы отдает, находится в агонии, но еще живет. Иди, Гриня, влево, я вправо, сейчас мы возьмем его в кольцо. А там видно будет…
Калмыков сделал несколько шагов вправо и словно бы провалился в некий захламленный зеленый омут; Куренев тоже провалился в такой же омут, исчез в нем с головой. Калмыков остановился, прислонился плечом и пробковому дереву, покрытому мшистой зеленой шкуркой — пробку доедал лишай, — замер, рассчитывая услышать тяжелый стон умирающего. Вместо этого из чащи принесся зажатый вздох, повис на ближайшем кусте, но и этого Калмыкову было достаточно, чтобы сориентироваться.
Он вспомнил случай, произошедший на фронте. В Карпатах дело было, в позднюю весеннюю пору. Весна тогда задержалась, замерла в своей поступи, хотя солнце проклевывалось сквозь облака и освещало землю скудным красным светом и заставляло шевелиться сугробы, а ночью припекал мороз совершенно зимний и все запечатывал в броню. Сугробы сделались будто бы отлитыми из чугуна — не только нога человека не проваливалась, даже лошадиные копыта и те прочно стояли на металлической поверхности сугробов, не продавливали их, воздух стекленел!.. У заснувшего в окопе человека шинель примерзала к спине. Суровая была весна. Хуже зимы. Впрочем, зима зиме — рознь.
Однажды ночью на нейтральной полосе — небольшом пространстве, изрытом воронками, раздался тихий, родивший оторопь стон — он проникал в душу, в сердце, выворачивал все наизнанку — такой это был стон. Описать его было невозможно, описанию он не поддавался, — у двух солдат прямо в окопе случилась истерика, будто у изнеженных слабонервных дамочек, и тогда Калмыков, командовавший спешенными казаками, послал двух человек на нейтралку — проверить, кто же стонет… Вдруг наш?
Хотя наших там вроде бы не должно быть — днем в окопах произвели пересчет, все находились на месте, ранней ночью к немцам ходила разведка, но и разведчики вернулись все, ночевать расположились дома… В общем, проверить все равно надо было.
А тихий, рожденный неизбывной болью стон продолжал держать окопы в напряжении. Не спал никто.
Два человека, скребя локтями по насту, уползли в темноту. Вернулся один. Второй был убит немецким ножом прямо в сердце, напарник выволок его тело, чтобы похоронить по христианским обычаям…
Разгадка же оказалась проста.
В одной из воронок лежал без сознания, с развороченным животом немец в форме горной егерской бригады и стонал, рядом сидел другой немец — битюг с литыми плечами и двадцатикилограммовыми кулаками, дежурил. Вооружен он был двумя ножами.
Когда посланцы Калмыкова доползли до этой воронки, там уже лежало двое русских с перерезанными глотками — приползли из других окопов; битюг постарался их не упустить.
В воронке завязалась драка. Одного из калмыковцев битюг убил — ловким ударом ножа почти целиком отсек ему голову, второй — казак из-под Гродеково, оказался ловчее и сильнее немца и уложил его.
Стон, доносившийся из замусоренных уссурийских глубин, из серого жаркого мрака, чем-то напоминал тот стон, который издавал тяжелораненый немец весной шестнадцатого года.
Подъесаул передернул плечами, оттолкнулся локтями от замшелого пробкового ствола и шагнул прямо в куст, покрытый красными, влажно поблескивавшими ягодами, раздвинул его, следом смял другой куст, такой же, только поменьше, машинально, щепотью сдернул с ветки несколько ягод, отправил в рот, подумал, что надо бы нарвать ягод побольше, ведь это — целебный лимонник.
Вкус у лимонника — горький, свежий, у этих ягод вкус тоже был горьким, но это была явно не та горечь, что у лимонника, — какая-то закисшая, и Калмыков, поморщившись, выплюнул красную жеванину.
Еще не хватало съесть какую-нибудь отраву, волчью ягоду, и свалиться на землю с приступом желудочной рези.
В следующее мгновение он забыл о красных горьких ягодах, на ходу, не останавливаясь, смял еще несколько небольших кустов, перелез через завал осклизлых, начавших гнить деревьев, и очутился на небольшой, густо завешенной нитями паутины поляне. Недовольно поморщился — странно и страшно выглядела эта поляна, будто ее целиком соткал некий гигантский паук, ловил теперь в сети людей и зверей и пожирал их.
По левому краю поляны был проложен неровный темный след, как по осенней белой изморози. Это был след человека. Если бы прошел зверь, изюбр или козел, след был бы ровным, словно рисованным; человек же всегда оставляет после себя стежок рваный, неопрятный, будто бы ходок был сильно выпивший… Калмыков обвел поляну стволом карабина, готовый каждую секунду надавить на спусковой крючок, сжал губы в твердую складку: там, где прошел человек, может не только стон раздаваться.
Ходоков, судя по всему, было двое, шли нога в ногу, след в след, чтобы поменьше оставлять мятой травы, двигались осторожно — кого-то боялись.
«Это китайцы, — подумал Калмыков, — женьшень ищут, лимонники сдирают с кустов, за древесными лягушками охотятся!..» На щеках у подъесаула появились кирпично-твердые желваки: ходоков из-за кордона он не любил.
Согнулся над следом, увидел отчетливый отпечаток ноги: травинки, попавшие под подошву, не успели распрямиться, были придавлены. Значит, люди прошли здесь совсем недавно. Калмыков, будто зверь, потянул ноздрями воздух, ощутил в нем примесь пота, ханки и еще чего-то, схожего с прокисшей едой, вновь недовольно поморщился. Услышав над собой сухой треск, поднял голову. На высоком дереве, обламывая сухие сучки, неуклюже топталась, прогибая ветку, ворона, вытирала о лапы клюв и следила одним недобрым зраком за человеком.
Второй зрак дежурил, находился на стреме, обозревал пространство: нет ли в нем чего худого и опасного?
Калмыков хотел хлопнуть в ладони и спугнуть ворону, но в следующее мгновение остановил себя. Ворона эта — колдунья; хлопок принесется обратно, и неведомо еще, пустой он будет или с начинкой.
Из замусоренной глубины до него снова донесся стон — слезный, жалкий, на стон не похожий. Калмыков ощутил, как на горло ему легли чьи-то невидимые пальцы, и он бочком, бочком, стараясь, чтобы ноги при движении попадали в следы, уже
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (129) »