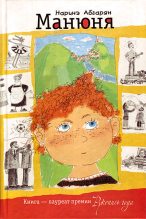Вера Филатова, слышишь, только я была единственной и настоящей еврейкой.
Фейга прыснула.
— Это я больше всех испытала от тех прелестей, что выпали на вашу долю — и суды, и запреты; это я дрожала от страха не за свою, а за вашу жизнь, когда в Москве схватили кремлевских докторов; это я люто ненавидела своих сородичей за проклятый пятый пункт, за «кукугузу» и «гогу Агагат», за наветы; это я знала все секреты еврейской кухни и все ваши обычаи, все праздники; это я при всем честном народе не стеснялась говорить со знакомыми на идиш; это я записалась в еврейскую самодеятельность и, когда большинство актеров разъехалось кто куда, я под аплодисменты всего зала играла Эти-Мени — Эрнестину Ефимовну, жену портного Шимеле Сорокера…
— Я-то всегда тебя считала еврейкой, но ты передохни, ради Бога, передохни, — испугалась Фейга. — Тебе нельзя так напрягаться…
— Можно, можно… Какая разница — днем раньше хватит Кондратий, днем позже. Ты знаешь — я не хвастунья… Говорю, как было. Ничего не прибавляю. Разве после всего этого я не заслужила, чтобы меня положили на еврейском кладбище рядом с евреями, с теми, за кого я всю жизнь заступалась, с кем вместе страдала, а не зарыли, как собаку, под забором? Разве я, скажи честно, не заслужила?
Фейга не перебивала, поддакивала, опасаясь, что Вера Ильинична еще больше распалится, и тогда придется вызывать скорую, но Вижанская не собиралась довольствоваться ни ее уверениями, что со временем в Израиле и Павлик, и Семён с Иланой станут полными евреями, ни ее молитвенными кивками, и продолжала говорить — правда, без прежнего пыла и обиды, с каким-то примирительным отчаянием, как будто изливала душу не перед бесхитростной Фейгой Розенблюм, а перед кем-то другим, невидимым и бесконечно справедливым. Иногда она замолкала и принималась скользить затуманенным взглядом по чужим стенам и обоям, по облысевшим дверцам платяного шкафа и дубовому комоду, на котором чернел оставленный Моше арендный семисвечник, и от этого молчания, от этого пристрастного поглядывания Фейге становилось еще страшней.
— Может, ты все-таки что-нибудь съешь? — в который раз предложила Фейга.
— Лучше накорми Карлушу… И воду в поилке смени… А то он что-то совсем приуныл, — промолвила Вера Ильинична. — В кухне на верхней полке в целлофановом мешочке корм… Только смотри — не выпусти из клетки… Я уже один раз за ним по всей квартире гонялась. Еле поймала… Вылетел бы, дуралей, и попал бы в пасть к коту. — И неожиданно добавила — Интересно, Фейга, какой национальности и религии птицы? Евреи, русские, арабы, литовцы? Христиане, мусульмане, буддисты?
Вопрос ошеломил Фейгу. Чего, чего, а такого поворота она от сумасбродки Вижанской не ждала. В роду Розенблюмов ломали голову над всякими вопросами, но чтобы её такими идиотскими морочили!
— Птицы? — замялась она. — Наверно, у них у всех и национальность одна, и религия одна — птичья.
— А почему, Фейга, так не может быть у нас? Одна на всех — человечья.
— Не знаю.
— Было бы, ей-богу, неплохо. Где свил гнездо и высидел своих птенцов, там и родина, где летаешь и щебечешь на ветке, там твой дом, и ты не чужак, а свой… И ни тебе распрей, ни войн…
Затренькал телефон, который и вернул их к прежним заботам — к раненому Павлику, к Тверии.
— Это Илана, — выдохнула Вера Ильинична. — Сними трубку… Сейчас я подойду. Сейчас…
— Может, мне с ней поговорить?
— Я ещё не умираю, — буркнула Вера Ильинична, с трудом встала с дивана, запахнула халат и грузно зашагала к телефону.
— Алло! Да… Слушаю. Упало, упало… Сто шестьдесят пять на сто. Да… Принимаю… Две таблетки. Фейга? Шомерит. Сторожит меня!.. Не беспокойся… Заночует… Что это ты всё про меня да про меня… С него бы и начала… Я не расслышала — сколько? Ничего себе… А нога? Не отрежут, говоришь? Не клянись, не клянись. А что, хирурги — не люди, не врут? Хорошо, хорошо. Значит, не заедете… Оттуда прямо на работу. Ладно. И ему от нас передай… Скажи, на будущей неделе нагрянем… С ревизией… А мне ни от кого никакого разрешения не нужно…
— Ну? — не вытерпела Фейга.
— Операция вроде бы прошла успешно… Восемь осколков выковыряли. Два из живота… остальные из ноги… Но голос у доченьки невесёлый…
— В больницах какое веселье?… Главное, что он жив.
— Жив-то жив, а если выпишут инвалидом… калекой? — гнула своё Вера Ильинична.
— У тебя сразу — инвалид, калека! Может, все обойдется. Не про твоего внука да будет сказано, я знаю не одну семью, где согласны были бы водить слепого, катать в каталке парализованного. Да что там согласны — в своем несчастьи были бы даже счастливы… Только бы на могилу не ходить… только бы видеть своего… рядышком дышать…
— И я, наверно, была бы не против. Но кто, милая, знает, что лучше… Иногда уж лучше могила. Господи, не покарай меня за мои слова! Заткни уши! Не слушай дуру! Ты же, как и мы, не любишь правду. Тебе, как и нам, тошно от неё и больно… Потому-то, Господи, все тебе дружно врут… и Ты, жалеючи нас, врешь напропалую, — тихо, почти шепотом, как в церкви, держась за край стола, чтобы не упасть, пробормотала Вера Ильинична и беспомощно глянула на застывшую у Карлушиной клетки Фейгу.
— Ты чего, Фейга, плачешь? Чего плачешь?.. Если не перестанешь реветь, я тебя выгоню.
— Я не плачу… Чего мне плакать? Кого оплакивать? Кроме квартиры и пенсии у меня ничего и никого нет… Никого… Ни мужа, которого могли бы убить на войне. Ни внука, которого могли бы ранить на границе… Кто собирал радости и печали, а я двадцать с лишним лет собирала для Израиля налоги… Все остальное — мимо, мимо, мимо… Даже Кондратий, как ты говоришь, и тот мимо, — на одном дыхании произнесла Фейга, вытирая краем ладони накопившиеся за долгие годы и до сих пор не растраченные слезы.
Она сменила в поилке воду, насыпала щеглу корм, затем юркнула на кухню и заварила чай.
Погоняв чаи с трескучими, чуть подсоленными галетами, они под неусыпным надзором досточтимых старцев на стенах улеглись спать — Фейга в кресло-кровать, а Вера Ильинична на диван. Сон не шел, и обе до утра царапали открытыми глазами темноту и, как галетами, под неумолкающий гул моря похрустывали воспоминаниями.
В полдень их разбудил Моше. Он долго стоял за дверью, пока женщины одевались, а, когда ему открыли, поздоровался, но остался стоять на пороге…
— Проходите, Моше, — пригласила Вера Ильинична…
— Я на хвилинку… — сказал он по-польски, непривычно задумчивый и неулыбчивый. — Всё, пани Двора, будет хорошо… Такой уж я, проше панства, чловек. Даже в Освенциме я в наигоршы часы мувил собе: «Моше, вшистко бендзе в пожондку…» И с вашим внучком бендзе в пожондку.
Вера