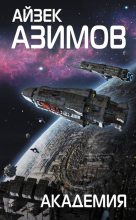серебряной чеканки на кинжалах и старинных пистолетах, развешанных по невидимым во тьме черкесским домотканым коврам, расцветшим исполинскими водорослями из какого-то волшебного подводного царства. Черкес оружием обвешан… Другие впадают в детство, а Гришка — в детство дедов, в фантазии о саклях предков.
Как всегда, немножко ёкнуло сердце при виде выглянувшего из-за угла силуэта карлицы — полуторааршинной куклы в искрящейся высоченной тюбетейке и бешмете или там чекмене с золотым подводным шитьем — черкесская княжна в масштабе один к полутора. Значит, можно перевести дух — я уже в кунацкой. И притом достаточно очумелый, чтобы растаяла тень на обоях, которую я не могу назвать проклятой, потому что не хочу, чтобы она совсем исчезла. Пусть появляется. Только не каждую ночь. Днем — пожалуйста. Чем чаще, тем лучше. Пускай она сопровождает меня до гробовой доски. С нею мне не так одиноко. И она ничего не требует от меня — не то что другая, в вечном своем сереньком ватнике…
Тысяча и не одна ночь понадобилась мне, чтобы не впадать в оторопь при виде призрачно мерцающих как бы старинной потертой чеканкой кувшинов или там кумганов, — к чему мне знать, что это такое, все равно на свете нет ничего аппетитнее слов, пока ты сохраняешь хоть какой-то вкус к жизни, — я без слов вижу, что у них девические шейки и лебединые носики. Дикие ковры в урбанистических бликах даже сквозь полумрак наводят на меня жуть своими колдовскими узорами, но я все равно не спешу покинуть это капище, ибо впереди меня ждет укромный уголок беспощадного царства кафеля.
Унитаз сияет больницей столь ослепительной, что мне уже не удается сдержать стон от спазма прямо-таки физической боли в груди, и я плюхаюсь на белый пластмассовый хомут, словно я не подтянутый мужчина средних лет, а разбухшая старая тетка. Этим я спасаюсь не только от больничного ужаса, но и от унижения: зрелище моего стручка, исправно справляющего малую нужду, дополнительным спазмом напоминает мне о том, что ни на что другое он больше не годится. Надо же — этот дурацкий отросток служит ключом в райский сад…
Но разве я сам не возглашал столько раз, что любовь — это греза?.. Почему же в нее нельзя войти без ключа? Разве я сам не трубил на всех углах, что любовь бывает одна — платоническая, стремление смертного к бессмертному, — почему же она невозможна без совокупления?!.
Возможна, отвечу я. Не фиг делать. Раз плюнуть. Как два пальца обоссать. Для кого угодно, только не для меня. Меня этому не обучили. А обучили ровно обратному. Обучили такие кретины, которых я и вспомнить не могу без усмешки, — и все же их уроки оказались самыми прочными. Прочным бывает только то, что усвоено в годы блаженного доверия. И я в ту пору намертво усвоил, что “это дело” не просто поганенькое удовольствие, но и страшный долг чести, — всякий, кто не способен его исполнить, недостоин даже плевка. Суметь бы мне хотя бы изобразить свое несчастье, свое неназываемое увечье красивыми словами в каких-нибудь бессмертных письмах нового Абеляра к новой Элоизе, — но нет, нет слов настолько изысканных, чтобы я решился поведать о своем позоре даже самой снисходительной и родной душе.
Даже такой, как Гришка. Вернее, Гришка будет последней, кому я в этом признаюсь. Ибо я до сих пор остаюсь ее грезой. А осквернить грезу для меня не просто жестокость — святотатство.
И под невидимое журчание, которое было бы умиротворяющим, не будь оно принужденным, в моем главном, внутреннем мире проносятся — нет, не мысли, кого волнуют мысли, — картины, успевающие в доли мгновения внушить то, на что реальности не хватило бы и десяти лет. Молниеносное прокручивание старых кинолент из бесконечного архива моей памяти пробуждает во мне смирившееся раскаяние и что-то вроде — да, что-то вроде благоговения.
В ту пору моя фирма “Всеобщий утешитель” пребывала на гребне популярности, однако этого пациента — страдальца — я принял сам. Именно потому, что он выглядел не раздавленным, а, напротив, на что-то решившимся. Простой такой инженер-радиотехник хорошо за сорок, до сих пор поклонник бардовской песни, наделенный коротким носом и каменными скулами, положительный ковбой второго плана.
Я к тому времени уже твердо знал, что главная сокрытая причина самоубийств — синдром душевного иммунодефицита, разрушение иллюзии о собственной красоте и значительности, и — с этим несчастным следовало говорить
как мужчина с мужчиной
.
Он во второй раз отправлялся в больницу по поводу гнойного простатита, лишившего его возможности вести нормальную половую жизнь (
жизнь
— не одно какое-то частное отправление!), и желал утвердиться в своем намерении уйти из этого мира, если и повторная госпитализация окажется бесполезной. “Мне стыдно смотреть в глаза жене”, — алея желваками, стоял он на предельно красивой в мире его мнимостей формуле, из которой мне так и не удалось выманить его никакими леденцами, вроде “да неужели для твоей жены секс важнее, чем твоя личность”, — не секс его волновал и не жена, а разрушенный образ себя:
мне
стыдно. Правда, когда я стал внушать ему, что любовь есть нечто неизмеримо более важное, чем секс, что женская красота веками подвигала мужчин на великие дела, его скулы слегка отмякли. Помнишь, поспешил я развить наметившийся успех, у Глеба Успенского зачуханный бедолага увидел Венеру Милосскую и почувствовал, как она его выпрямила. Вот видишь, снова окаменел он,
выпрямила
же…
Я, конечно, долго потом изводил себя за то, что проглядел буквальный смысл этой высокой метафоры, — но ведь человек, стремящийся к собственному концу… Снова двусмысленность, ими наш язык нашпигован, как… Да он из них только и состоит. Я иным своим пациентам предлагал посмотреть на жизнь как на сказку с хорошим
концом
… А другой страдалец прочел надпись в метро “Выхода нет” и бросился под поезд.
Этот ковбой второго плана так и ушел несломленным. А недели через три появилась его жена, тоже нормальная постсоветская тетка с высшим техническим, приобщившаяся к таинствам любви у костра под Клячкина и Визбора — тлеет костер, варится суп с консервами, скажут про нас: были ребята первыми… Бледная и отечная — румяными были только набрякшие веки, — она трясущимися пальцами с облупленным маникюром разглаживала на моем столе предсмертную записку, исполненную в самых лучших традициях, — прерывающейся шариковой ручкой, рвущей мятую клетчатую бумагу, покрытую ржавыми пятнами, на которых были отчетливо видны папиллярные линии.
Когда после всех промываний и припарок у него снова возникли боли, а в моче появились белые нити гноя, он перерезал себе горло перочинным ножом и несколько часов истекал