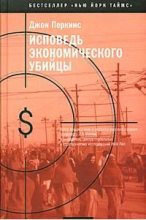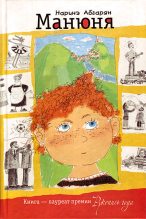транспортные колонны пойдут без потерь. Самые большие потери в колоннах, — вздохнул он. — Жду от вас результатов. — Он отложил аэрофотоснимки и вышел.
— Все понял? — сказал Березкин, обращаясь к переводчику. — Сейчас ступай к себе, можешь отдохнуть. Через полчаса на вылет! Двумя «вертушками» идем добывать «языка» в район Мусакалы! У них там, у чертей, сильное ПВО! Как бы не напороться! — и, забыв о лейтенанте, начальник разведки опять склонился над картой. Что-то нашептывал своими узкими запекшимися губами.
Его жилище — маленькая полутемная комнатка, клетушка в саманном доме — притулилось на краю гарнизона. Если не зажигать электричества, в комнату сквозь крохотное кривое оконце с тусклым осколком стекла сочился синеватый размытый свет. Едва освещал стол с бумагами, фотографию матери на столе, изразец, подобранный у стен разоренной мечети. Кровать с шерстяным одеялом, умывальник, автомат в изголовье — все оставалось в тени. Он улегся поверх одеяла, прислушиваясь к жужжанию вертолетов. От звука начинало дрожать не закрепленное в оконце стекло. Казалось, что синеватый свет звучит и трепещет и комната наполнена вибрацией света. Сквозь тонкую стену слышались голоса. Батурин знал — это солдаты, улучив минуту, завернули за угол, перекуривают здесь у стен его жилища, подальше от глаз командира. Он чувствовал себя усталым, огорченным, почти больным. Мучила его не телесная хворь, а связанная с работой неудовлетворенность. Общаясь с афганцами, устанавливая между ними и теми, кому помогал в переводе — командиру, Березкину, офицерам штаба, — истинную прочную связь, он каждый раз ошибался, промахивался, упускал что-то важное, таящееся не в словах, а в интонациях, во взглядах, неназванных чувствах. Ему казалось, что в этих промахах повинен он, что его знания недостаточны. Он, афганист, не знает страны и народа. Он пытался понять психологию, внутренний мир афганцев, наблюдая их в часы веселья, в часы беды и молитвы. Он бывал ими принят как гость. В самом бедном, скромном жилище на пыльной кошме бедняка. Был окружен их лаской, любовью. Выставляли последнее — сухую лепешку, вяленый ломтик мяса, жидкий чай в разбитой пиалке. Но от сердца, от всей души. И грози ему в эту минуту опасность, напади на него враг, хозяин сорвет со стены свою старую пуштунскую винтовку и станет защищать его, как брата, как сына. Он угадывал их лукавство, когда в дуканах хитрили, утаивали, увиливали от прямого ответа купцы и менялы, сребролюбцы, падкие до казны, до легких денег. Морочили собеседника, видели в нем простофилю, чужака, иноверца. А когда выводили их на чистую воду, смущались, улыбались, быстро шли на попятную. Видел в час смерти. Двух захваченных в плен муджахедов, когда полк афганских «командос» прочесывал мятежный кишлак. Обоих взяли с оружием — не успели засунуть винтовки под стреху виноградной сушильни. Их поставили тут же, у глинобитной стены. Оба молчаливые, молодые, высокие, с длинными, опущенными вдоль тела руками, смотрели на своих убийц с откровенной разящей ненавистью. Огненно-черные, пылающие, испепеляющие глаза. Стояли плечом к плечу, глядя, как подымаются стволы автоматов. Сколько раз в ночи настигал Батурина их огненный, ненавидящий взгляд… Видел их в час молитвы, когда садилось солнце и степь начинала краснеть, струилась, стекленела. В зеленом небе горы стояли алые. Путник, расстелив у обочины молитвенный коврик, совершал вечерний намаз. В его молитве, в его закрытых глазах, в обращенных к богу воздыханиях была истовость, глубина. И казалось, что его молитвой сберегается зеленое небо, далекие горы, хлебные нивы, сады. За стеной слышались солдатские голоса. — Да его пристрелить было мало, не то что морду набить! Мне вон ротный судом грозит, а мне не страшно! Я в пустыню ходил. Мне после пустыни никакие суды не страшны! — говорил один, хрипловатый и яростный, звучно сплевывая. — Пусть в пустыню сходят, караван забьют, а тогда и судят. А пока не сходили, неизвестно, кто кого судить должен! — отвечал второй, насмешливый, умолкая на время коротких сигаретных затяжек. — Эти, которых из Ленинграда, из Москвы набирают, самые поганые, бессовестные! И дураки! Их первыми пуля находит. Не могут выжить в пустыне! Их пустыня не принимает. Я сразу вижу, кого когда кокнет. У них на лицах написано. — Это точно. — Уж это точно! Москвичи — лопухи. Ленивые. И терпеть не умеют. Батурин рассеянно слушал. Оба солдата были десантники, что уходят в засаду в пустыню на истребление караванов с оружием. Быть может, оба полетят сейчас вместе с ним на захват «языков». Их ирония, ожесточение — солдатское понимание жизни все той же мудростью, приобретаемой в крови и слезах. — Я ему говорю: ты флягу взял, она у тебя одна на сутки! Береги! Терпи! Не пей! Днем пить впустую Выпил, и вся вода из подмышек вышла. Ты ночи, дурень, дождись, тогда и пей!.. Нет, не слушает! Веда флягу высосет и сидит мокрый, как мышь, глаза пучит!.. Зло берет! Думаешь, зарыл бы тебя, гада, в песок!.. Москвичи, они самые дикие, честно! — Это уж точно! Да и ленинградцы такие же! Зеленый изразец на столе мерцал, лучился, и казалось, глазурованная глина из купола старой мечети и есть источник света, озаряющий комнату. Батурин смотрел на изумрудное свечение глины, слушал голоса за стеной. Его основная работа в воюющей части требовала всех сил и энергии. Приучила к бессоннице, к постоянной готовности по первому знаку, приказу мчаться на вертолете, бетеэре, штабной машине, ночью и днем, в пекло и холод. Допросы пленных, тайные встречи с агентами, работа на фильтропунктах, куда из окруженных мятежных кишлаков перед началом удара выкликалось, вызывалось по мегафонам мирное население. Уходили женщины, дети, старики с кулями, с поклажей, скотиной. И он, тоскуя, сострадая и мучаясь, направлял кого к врачу, кого к повару, кого в тень брезентовых тентов, и уже начинала грохотать артиллерия, клубились в кишлаке разрывы, и в ответ из-за дувалов стучали крупнокалиберные пулеметы душманов. Он был в постоянных трудах, черновых, не оставлявших минуты для созерцания, любования, осторожного, бережного постижения. Но все же сквозь скрежеты и вопли войны стремился понять жизнь народа — для другого, почти невозможного мирного времени, после окончания насилий и боев. Погребения, когда торопились до захода солнца отнести на гору белого, спеленутого мертвеца, снять его с деревянного ложа, опустить в могилу головой на камень к невидимой Мекке, накрыть могилу пыльными горячими сланцами, поставить в изголовье дикую глыбу. И мертвец превращался в гору. Вечернее солнце зажигало на ней
Его жилище — маленькая полутемная комнатка, клетушка в саманном доме — притулилось на краю гарнизона. Если не зажигать электричества, в комнату сквозь крохотное кривое оконце с тусклым осколком стекла сочился синеватый размытый свет. Едва освещал стол с бумагами, фотографию матери на столе, изразец, подобранный у стен разоренной мечети. Кровать с шерстяным одеялом, умывальник, автомат в изголовье — все оставалось в тени. Он улегся поверх одеяла, прислушиваясь к жужжанию вертолетов. От звука начинало дрожать не закрепленное в оконце стекло. Казалось, что синеватый свет звучит и трепещет и комната наполнена вибрацией света. Сквозь тонкую стену слышались голоса. Батурин знал — это солдаты, улучив минуту, завернули за угол, перекуривают здесь у стен его жилища, подальше от глаз командира. Он чувствовал себя усталым, огорченным, почти больным. Мучила его не телесная хворь, а связанная с работой неудовлетворенность. Общаясь с афганцами, устанавливая между ними и теми, кому помогал в переводе — командиру, Березкину, офицерам штаба, — истинную прочную связь, он каждый раз ошибался, промахивался, упускал что-то важное, таящееся не в словах, а в интонациях, во взглядах, неназванных чувствах. Ему казалось, что в этих промахах повинен он, что его знания недостаточны. Он, афганист, не знает страны и народа. Он пытался понять психологию, внутренний мир афганцев, наблюдая их в часы веселья, в часы беды и молитвы. Он бывал ими принят как гость. В самом бедном, скромном жилище на пыльной кошме бедняка. Был окружен их лаской, любовью. Выставляли последнее — сухую лепешку, вяленый ломтик мяса, жидкий чай в разбитой пиалке. Но от сердца, от всей души. И грози ему в эту минуту опасность, напади на него враг, хозяин сорвет со стены свою старую пуштунскую винтовку и станет защищать его, как брата, как сына. Он угадывал их лукавство, когда в дуканах хитрили, утаивали, увиливали от прямого ответа купцы и менялы, сребролюбцы, падкие до казны, до легких денег. Морочили собеседника, видели в нем простофилю, чужака, иноверца. А когда выводили их на чистую воду, смущались, улыбались, быстро шли на попятную. Видел в час смерти. Двух захваченных в плен муджахедов, когда полк афганских «командос» прочесывал мятежный кишлак. Обоих взяли с оружием — не успели засунуть винтовки под стреху виноградной сушильни. Их поставили тут же, у глинобитной стены. Оба молчаливые, молодые, высокие, с длинными, опущенными вдоль тела руками, смотрели на своих убийц с откровенной разящей ненавистью. Огненно-черные, пылающие, испепеляющие глаза. Стояли плечом к плечу, глядя, как подымаются стволы автоматов. Сколько раз в ночи настигал Батурина их огненный, ненавидящий взгляд… Видел их в час молитвы, когда садилось солнце и степь начинала краснеть, струилась, стекленела. В зеленом небе горы стояли алые. Путник, расстелив у обочины молитвенный коврик, совершал вечерний намаз. В его молитве, в его закрытых глазах, в обращенных к богу воздыханиях была истовость, глубина. И казалось, что его молитвой сберегается зеленое небо, далекие горы, хлебные нивы, сады. За стеной слышались солдатские голоса. — Да его пристрелить было мало, не то что морду набить! Мне вон ротный судом грозит, а мне не страшно! Я в пустыню ходил. Мне после пустыни никакие суды не страшны! — говорил один, хрипловатый и яростный, звучно сплевывая. — Пусть в пустыню сходят, караван забьют, а тогда и судят. А пока не сходили, неизвестно, кто кого судить должен! — отвечал второй, насмешливый, умолкая на время коротких сигаретных затяжек. — Эти, которых из Ленинграда, из Москвы набирают, самые поганые, бессовестные! И дураки! Их первыми пуля находит. Не могут выжить в пустыне! Их пустыня не принимает. Я сразу вижу, кого когда кокнет. У них на лицах написано. — Это точно. — Уж это точно! Москвичи — лопухи. Ленивые. И терпеть не умеют. Батурин рассеянно слушал. Оба солдата были десантники, что уходят в засаду в пустыню на истребление караванов с оружием. Быть может, оба полетят сейчас вместе с ним на захват «языков». Их ирония, ожесточение — солдатское понимание жизни все той же мудростью, приобретаемой в крови и слезах. — Я ему говорю: ты флягу взял, она у тебя одна на сутки! Береги! Терпи! Не пей! Днем пить впустую Выпил, и вся вода из подмышек вышла. Ты ночи, дурень, дождись, тогда и пей!.. Нет, не слушает! Веда флягу высосет и сидит мокрый, как мышь, глаза пучит!.. Зло берет! Думаешь, зарыл бы тебя, гада, в песок!.. Москвичи, они самые дикие, честно! — Это уж точно! Да и ленинградцы такие же! Зеленый изразец на столе мерцал, лучился, и казалось, глазурованная глина из купола старой мечети и есть источник света, озаряющий комнату. Батурин смотрел на изумрудное свечение глины, слушал голоса за стеной. Его основная работа в воюющей части требовала всех сил и энергии. Приучила к бессоннице, к постоянной готовности по первому знаку, приказу мчаться на вертолете, бетеэре, штабной машине, ночью и днем, в пекло и холод. Допросы пленных, тайные встречи с агентами, работа на фильтропунктах, куда из окруженных мятежных кишлаков перед началом удара выкликалось, вызывалось по мегафонам мирное население. Уходили женщины, дети, старики с кулями, с поклажей, скотиной. И он, тоскуя, сострадая и мучаясь, направлял кого к врачу, кого к повару, кого в тень брезентовых тентов, и уже начинала грохотать артиллерия, клубились в кишлаке разрывы, и в ответ из-за дувалов стучали крупнокалиберные пулеметы душманов. Он был в постоянных трудах, черновых, не оставлявших минуты для созерцания, любования, осторожного, бережного постижения. Но все же сквозь скрежеты и вопли войны стремился понять жизнь народа — для другого, почти невозможного мирного времени, после окончания насилий и боев. Погребения, когда торопились до захода солнца отнести на гору белого, спеленутого мертвеца, снять его с деревянного ложа, опустить в могилу головой на камень к невидимой Мекке, накрыть могилу пыльными горячими сланцами, поставить в изголовье дикую глыбу. И мертвец превращался в гору. Вечернее солнце зажигало на ней