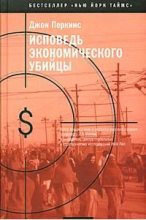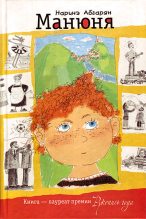- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (4) »
Александр Кирнос И ПРИХОДИТ ВЕТЕР Главы из романа
Глава 1 ЗВЕРИНСКАЯ УЛИЦА, Д 3
— Не хрена геморрой высиживать, пошли на Петропавловку, позагораем, — сказал Миша, остановившись за спиной Сонина и глядя на девственно чистый лист бумаги, над которым тот уже битый час медитировал. По-видимому, Миша был стихийным поборником моцартианства в искусстве и категорически не признавал то, что томные дамы в девятнадцатом веке называли муками творчества. Он положил в сумку плед и открыл дверь. Невысокий, ладно скроенный, с черными бархатными глазами умной обезьянки, испытующе смотрящими на мир, Миша казался ровесником Сонина, хотя был старше его на четверть века. Успел покататься в войну по «дороге жизни», две машины под ладожский лед ушли, а Миша — вот он, хоть бы хны, мастер золотые руки, полторы сотни ткачих на него только что не молятся, лучший механик ткацкой фабрики.— Как ты выплыл, будем знать только мы с тобой, — пела по вечерам Иня, прижимая к своей пухлой груди его голову постаревшего Меркурия с пружинящими, черными с проседью волосами. — А как ты, взаправду, выплыл, папка? Расскажи, а, — канючила девятилетняя Туся. — Как, да как — уже два кака. Говно не тонет, — отмахивался Миша, — ешь, зараза, а то на леса пойдешь, штукатуром будешь, — ласково приглаживал он непослушные кудри дочери. Сонин любил эти вечера на Зверинской улице. В зоопарке заполошно всхлипывала выпь, на остановке под окном тренькал трамвай, кондукторша грозно предупреждала мироздание: следующая — улица Добролюбова. Борис Абрамович на диване у окна, сняв протез, оглаживал натруженную за день культю. — Иня, — он поворачивал голову к дочери, — что вы сидите, как царица Савская, чайник на кухне свистит, как городовой, у него же скоро апоплексический удар будет. Иня со вздохом медленно вставала и величаво выплывала из комнаты.
Сестрички Мойры, очнувшись от наркотического сна, старательно латали прорехи в полотне судьбы, но их усердие было явно запоздалым. Клото, правда, наткала пряжи на десяток жизней, а вот Лахесис вытянула им жребий, доставшийся немногим. Сколько раз Атропос щелкала ножницами, пытаясь пересечь нити их жизни, но, видимо, промахивалась сослепу.
— Ах, душа, моя душа, не стареет ни шиша, с болью свыклась, с жизнью слиплась, пусть не очень хороша, отчего ж такую хлипкость проявляют телеса, — теплым негромким баритоном, пристукивая по полу в такт костылем, запел Борис Абрамович. Туся вспорхнула из-за стола и в позе лотоса уселась на полу перед дедом.
«Маленький Береле, Береле-бу, дуй, что есть силы в большую трубу» — в тринадцать лет сразу после бар-мицвы осиротел Борух, став не только по еврейскому закону, но и фактически совершеннолетним. Банда Булак-Балоховича, преследуемая красными, успела сжечь половину домов в местечке вместе с неудачно спрятавшимися его обитателями. Не по возрасту рослый парнишка с серыми, словно запорошенными пеплом глазами, глянулся командиру отряда, и Борух в одночасье стал Борькой, трубачом и сыном эскадрона. На плечах отступавших белополяков кавалерийская лава катилась к Варшаве, но, не дойдя до нее, выдохлась и, как в отлив, откатилась назад, отмечая пути отхода могильными холмиками. Шашка сроднилась с правой ладонью Бориса Бернова также, как труба с губами, Сами собой выпевались песни, в которых вековечная русская мечта о воле и справедливости нерасторжимо сплеталась в одну мелодию с еврейской тоской об идеале. Закончилась гражданская война, но Борис продолжал кочевую гарнизонную жизнь, пока не прилепилась к нему Люба, которую он в двадцать третьем году умыкнул из родительского дома в Полоцке. «А ну ка, шашки подвысь, мы все в бою родились» — гремела молодецкая песня, бравые кавалеристы гарцевали по тихой улочке еврейской слободы и сероглазый красавец на одинокой трубе сопровождал песню боя и страсти знакомой с детства клейзмерской мелодией печали и надежды. Она не помнила, как перепорхнув через плетень, оказалась в его седле. Через несколько дней всем эскадроном сыграли свадьбу. Ни раввинов, ни хупы, ни родственников ни с одной стороны. По ночам их тела свивались плотнее, чем ремни кожаной кавалерийской плети, они буквально слеплялись друг с другом, разъединяясь только на короткое время сна. Стосковавшиеся друг по другу половинки неудержимо пытались стать единым целым. Ребенок не заставил себя ждать. В конце января двадцать четвертого года горе и радость слились воедино: смерть Ильича и рождение дочери. Имя вылепилось само собой: Нинель. Ленин, если читать справа налево, не забыл Борис-Борух учебу в Хедере. Семнадцатилетние счастливые родители были оставлены эскадроном в Витебске на попечение дальних родственников. Еще через год родился сын. Назвали Володей, на этот раз Борис уже не шифровался, любовь к вождю мирового пролетариата стала естественной, как дыхание, а читал и писал он уже давно только слева направо. В Витебске, где комиссаром по делам искусства совсем недавно был Шагал, где Малевич вырубал свои квадратные окна в черноту космоса, и где местные клезмеры превращали еврейские нигуны в победные марши пролетариата, молодая пара пришлась не то, что не ко двору, но как-то зависла между разными мирами. Дядя Шама, у которого они нашли пристанище, был крупным осанистым мужчиной с покатыми плечами и длинными руками, кисти которых достигали колен. Силы он был неимоверной, легко закидывал на телегу пятипудовые мешки сахара, а однажды Борис видел, как он, крутя между пальцами, согнул целковый, положив его между указательным и средним пальцами и надавив большим. Еще затемно в воскресенье он запрягал в телегу своего чалого мерина, ворота, смазанные дегтем, бесшумно отворялись и Шама исчезал до вечера четверга. Ездил он всегда один и никогда не попадал ни в какие передряги, а ведь в лесах вокруг города до самой границы было неспокойно. В слободе глухо поговаривали, что он занимался контрабандой и у него были знакомые по обе стороны границы. Он неторопливо ехал по лесу на своем мерине, время от времени громко покрикивая: «Ша-а-ама фурт». В пятницу вечером в белой рубашке, лапсердаке и шляпе он пел другое: «Барух ата адонай Элохейну, мэлэх хаолам».
Ютились вчетвером в восьмиметровой каморке, половину которой занимала лежанка, где все вместе спали, а у крохотного окошка примостился стол. На нем каждое утро расцветали написанные Любой по ночам цветы. Красок было всего две: сурик, пару банок которого обнаружила случайно Люба в чулане, и сажа. Сажи было много, дымоходы не чистились еще с германской войны. Однажды
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (4) »