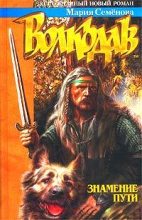- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (19) »
Коммуна была интереснее. Дома там стояли основательные — не подходи, ступай мимо. При высоких заборах и зеленых палисадниках с мальвами и георгинами, сливами и вишнями — вполне, вполне зажиточные, по всему, жили здесь люди, не потому ли издавна звались коммунарами — к коммунизму близко. Но привлекало меня иное — копанки, пруды в рядок вдоль дороги. А в них живые карасики, которые, если напрячься и взболтать ногами воду, выплывали со дна на поверхность, хватали круглыми ртами воздух, судорожно упрекая немыми, бескровными еще губами, и их можно было ловить руками.
Что было под Козловичами и в самих Козловичах, я не знал, не мог даже представить, хотя объявился свету, считай, из них — Азаричского концлагеря, расположенного почти рядом с ними, но намертво вычеркнул это из своей памяти. Поговаривали, что там имелась нефть, протекала подземная черная нефтяная река. О нефти, черных реках я тоже ничего не знал, как и окружающие меня анисовичские люди. Но все же говорили меж собой больше женщины, старухи на попрядках и вечерках: есть, текут такие реки, где живут черные, как сапог нагуталиненный, люди. А теперь вот появились и у нас. Из крови человеческой. Потому что там, в лагере, столько людей легло, как желудей спелых. Истекло кровью. И она порой загоралась. И пламя, и черные реки докатывались, достигали даже Домановичско-Анисовичского кладбища. Докопались, увидели ту черную реку, когда в конце войны погиб здесь большой командир Красной Армии. Черная густая вода проступила на донце могилы. Так того командира и опустили в черную жирную жижу. Я сочувствовал ему, жалел. Как-то не по-людски это было. С одной стороны, конечно, может, и хорошо — дольше сохранится. А с другой, вздумает закурить — загорится. Юшка та черная, жирная, горючая. Жалко человека, хотя и умершего.
Так стоял я и бедовал на росстанях трех дорог, не зная, в какую сторону броситься. Солнце клонилось к заходу. Припадали к земле предвечерняя задумчивая тишина и свежесть. Я плюнул на руку и ударил по капле слюны пальцем: в какую сторону полетят брызги, туда и пойду. Полетели налево. Я обрадовался, хотел, чтобы они именно налево и полетели. Нечего мне было смотреть и делать ни в Домановичах, ни в Холодниках. Домановичи одно только название — райцентр. А на самом деле — разрушенная до руин ленинская школа, лежащая в тех же кирпичных руинах школа сталинская. Только стена на одной из них и устояла. Ее побелили мелом или известью и изредка показывали в кино. А мы из лежбищ в руинах бесплатно смотрели разные «Индийские гробницы» и, забыл, какие-то битвы. Но это вечером или даже ночью.
С Коммуной выбор был нелегкий, спорный. За палисадниками там росли яблони, и возле заборов можно было поднять паданки. В Анисовичах же, хотя и название яблочное, яблонь ни единой, как говорится, и близко не стояло. Лишь где-то за колхозными амбарами, складами, выгоном — райки. Но до первых заморозков их райскими, насквозь красными яблочками — только косину выправлять.
А прямо передо мной черно и серо простиралось кладбище. Мне туда ни к чему. Хотя оно и искушало, манило, и казалось, было близко мне. Где-то на подобном кладбище вечным сном забылись моя мама и сестричка. Но я до немоты, до мурашек по коже, ползающего ужаса в налысо стриженых волосах, боялся могилок. Тем более вот таких бесконечных. Боялся неисчислимых покойников, среди которых мог и не узнать с перепугу маму и сестру. В глубине кладбища, посреди него, под навесом чернокорявых сосен ютилась небольшая избушка с единственным, кажется, окном, одноглазая. И этот глаз вечером во тьме светился. В той избушке, как я полагал, собирались, восстав из могил, мертвецы, высматривая меня или кого-то другого, неосторожно посягнувшего на их селище. Потому что такой порой на кладбище уже немо выли волки, которые были совсем не волками, а грешниками, оборотнями.
Так вот само собой сложилось, что я направился, пошагал на Козловичи. Дорога потянула меня туда. И хотя я привык гулять сам по себе, вынужден был подчиниться ее зову и приказу. Бессилен был сопротивляться неведомому, что таилось в моей памяти. В старинном Азаричско-Домановичском гостинце. А он был проложен через меня в моем же кажущемся беспамятстве. Ко всему, я всегда и во всем выбирал неизвестность, порой даже и смертельную. Нови, нови, нови. Не так ли летают в небе птицы, например, ласточки, точечно которыми мечен и я. Никогда не повторяются в небе, всегда иначе и по-новому. И я желал того же. Своей дороги, нови, неизвестности. А то, что из этого можно и не вернуться, дело десятое. Бог надвое судит.
Гостинец с хорошо наезженной колеей, до зольности поседевшим полесским песком, подгонял, втягивал меня то ли в прошлое, то ли в будущее. Колея была глубокая до черни с исподу. Но и в ней хватало песка, до щиколоток. А посредине бега машинных колес — и по колени мне, хотя смотрелась твердью. Твердь была обманной, поддельной из-за ровности песка, приглаженного, словно катком, задними мостами и ступицами грузовиков, в то время больше еще фронтовыми полундрами-полуторками.
Я купился на эту ровность, ступил и еле вытащил ноги. То же было и по обе стороны машинного хода. Единственное, что утешало и мирило меня с большаком, — песок, будто овечья или собачья шкура, мягкий и согревающий. Моим исцарапанным, в сукровичных цыпках ногам было в нем уютно и тепло, хотя и труднее переставлять их. Но я, подобно воробью, скоком пехотил дорогу.
Без простоев стремился в никуда. Бросался в разные стороны дороги, где, как думалось мне, легче ступать. Тянулся, как по веревке, колеей, переходил на целинную
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (19) »