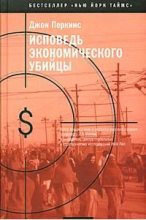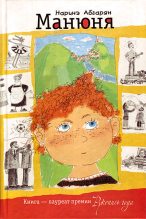- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (44) »
проклятиями, и «положением», но здесь заговорил Сахаров. Хоть красота и пылкость чувств Туси всячески льстили его балалаечному сердцу, он не пренебрегал и монетой. Происхождение, и облик подобной жены только отягчили бы всю мизерность существования крохотного счетовода. Услыхав «семья», «бюджет», «дети», девушка не на шутку задумалась. Ее чувства, до того дня невесомые и радостные, как цвет яблони, стали обрастать мясом. Любовь требовала разумности, и Туся перебивала теперь нежные признания сложными выкладками, хитрыми маневрами, планами: приданое, служба, квартира.
Однако Наталья Генриховна была в ту пору еще наивной девочкой, хоть и говорила, что следует «использовать связи папа». Ах, ей так хотелось гладить светлые волосы ее Ванечки, не думая ни о каком «положении»! В эти годы существует еще, хотя бы в мечтах, простая комната с куском хлеба и с букетиком фиалок. Притом насмешки раздраженного барона над Сахаровым становились все злее и злее. Так произошло решительное объяснение.
– Все равно, папа. Решай. Я выйду замуж за Ивана Игнатьевича, или я с ним убегу.
– За таких, голубушка, замуж не выходят. Если ты настолько испорчена, я его найму в лакеи. Это все, что я могу тебе предложить.
Вернувшись со службы, Сахаров нашел в паршивеньком номере «меблирашек», где он проживал, Тусю с дорожным несессером. Впервые невеста предстала перед ним вне фантастического окружения денег, знакомств отца, мраморной лестницы особняка на Мойке. Однако он был молод и тщеславен. Он уступил, если угодно - отдался. Так совершился этот доподлинный мезальянс.
Прошло восемь лет. Говорить о том, какие это были годы, не приходится, все мы только о них и думаем, хоть стараемся забыть их: дико и дивно жить на земле с такой памятью.
Да, были и тогда бабьи пересуды, смена времен года, старческое покашливание, но даже эти привычные вещи казались незнакомыми, полными значимости, как резонанс собственного голоса в большом, пустом зале. Нелегко было сменить дочери барона все эти «Аполлоны», вернисажи и Баден-Бадены на заборочную книжку грубияна мясника, на выкраивание из крохотного оклада выходного платья. Над этим умилялись наши матери, говоря мечтательно: «Вот что значит, дети, любовь!» Нам остается взглянуть хотя бы на руки Натальи Генриховны - и усмехнуться.
Женившись, Сахаров бросил службу. Как заласканное дитя, он хныкал: «Что за жизнь!…» Он хотел вправду славы, мраморной лестницы, каких-то придуманных им «вышек». Молодые переехали в Москву, подальше от злых пересудов. Наталья Генриховна переводила с немецкого руководства для агрономов и давала уроки музыки, Сахаров весь день валялся на кушетке, подкрепляясь какао и мечтами: умрет барон, отпишет все Туське, как-никак дочь, тогда - цыганки, котелок от Вандрага, роскошь. После февраля он попробовал было выдвинуться, что-то напевал под нос, рассовывал соседям избирательные бюллетени, уверял: «Отстоим»,- как детский шарик, рвался он вверх к славе. Октябрь снова швырнул его на ту же кушетку. Потом кушетку отобрали. Отобрали и многое другое.
Здесь-то Наталья Генриховна показала себя. Чего только она не делала! Ощерясь, выбегала она утром на мороз, как волчица, у которой в норе голодные детеныши. Она вырывала пайки и жалованье, белый хлеб - эту поэзию Сухаревки - и охранные грамоты. За фунт пшена она объясняла почтительно топотавшим красноармейцам картины Дега и Ренуара, вела класс немецкого, на крыше вагона ездила в Серпухов за картошкой, сбывала бабам, божась и ругаясь, старые лифчики, разносила по редким лавчонкам сахарин, запрягшись в салазки, таскала с Москвы-реки дрова. Когда Сахарова посадили, она не плакала. Наглухо закрытые двери и те подались перед упорством этой женщины. Она не просила, нет, пренебрегая своим происхождением, более чем зазорным, сахарином, Сухаревкой, она требовала. Освобожденный наконец-то Ванечка ел сгущенное молоко и задавался вовсю: «Я им ответил…»
Наталья Генриховна колола дрова, раздувала печку, таскала ведра. Ванечка становился все белей, ленивей и капризней. Не было теперь на свете балалайки, способной выразить разор и томность его чувств. С женой он усвоил тон ребячливого отвращения: «Ах, опять это пшено с овсом! Не хочу!», «Сядь на стул, ты пахнешь луком», «Я, дурак, думал, что женщина - это вроде птички, а ты пыхтишь, прямо как паровоз. Не лезь! Надоело!»
Однако, несмотря на подобное разочарование, явился Петька. Наталья Генриховна носила его в сугубо тяжелый двадцатый год, и, взглянув на уродливые ручонки без ногтей, Панкратова перекрестилась: «Не жилец». Она не учла готовности и сил матери.
Вскоре подошло облегчение. Панкратов отслужил молебен. Впервые за все эти годы Наталья Генриховна решилась тихонечко всплакнуть. Шляпное заведение «Комильфо» сменило и музейные экскурсии, и сахарин. В заказчицах недостатка не было: «Баронесса сделает…» Жены сидельцев, разбогатевшие мешочницы примеривали здесь первые свои шляпы, кокетливо щурясь и подозрительно ощупывая каркас: нет ли подвоха?… Это было полно поэзии, как первый бал или первая любовь. «Отделать шелком», «форма - котелок», «итальянский фетр» - прерывались икотой после снетковых щей и расчесыванием боков, где по-прежнему жила исконной своей жизнью фауна Проточного переулка.
Служба Сахарова была, откровенно говоря, пустячной - он должен был собирать объявления для агентства «Связь». Не раз жена ходила за него в разные тресты и управления: ведь он страдал ревматизмом и ненавидел трамвайную толкотню. Он стал «комильфо». Он ухаживал за советскими и полусоветскими барышнями (конечно, с разбором, чтобы не было ни сильных чувств, ни алиментов), ходил к Мейерхольду - послушать фокстрот, по мелочи играл в казино и на бегах,- словом, жил припеваючи. Когда он рассказывал дома: «Мараскин поет: я погажен, я потгясен»,- рассказывал спесиво, как будто это его, Сахарова, выдумка, мастерица Поленька богомольно приоткрывала свой огромный рот, похожий на плевательницу, а Наталья Генриховна уныло отворачивалась. Уж вправду читала ли она когда-то «Аполлон»? Кричала ли, вся раскрасневшись, «браво» Вере Комиссаржевской? «Отделать шелком», «Смазать Петьке грудь скипидаром», «Выгнать пятнадцать червонцев Ванечке на костюм».
Живем мы и, чего прикидываться, любим жизнь до подлости, а страшна эта жизнь, ничего страшнее не придумаешь. В комнате имелись три зеркала для примерки, и не могла укрыться от них бедная Наталья Генриховна. До чего постарела, подурнела, опустилась! Узнали ли бы картавившие правоведы в этой одутловатой женщине, с расстегнутым лифом и сбитыми волосами, недотрогу-красавицу Тусю? Да может, и эти правоведы стали ей под пару - продают дрожжи на Сенном рынке
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- . . .
- последняя (44) »