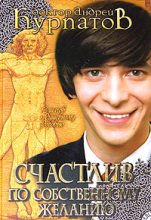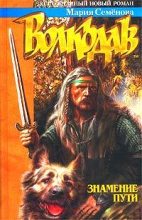- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (11) »
думаешь-то? — отслонилась Агния, глянув сбоку.
Чёрный ветер прямо-таки норовил выдуть их из кузова. Хлестало и сверху, и снизу, и с боков. Голова Анастасии, закрученная до самых бровей в полушалок, билась затылком о кабину, а серые глаза с запылёнными ресницами вприщур косили на сторону, через борт, к хуторским крайним плетням.
— О чём ты, Настя?
— Так. Ни о чём, — сказала Анастасия в полушалок. — О белом снеге…
Агнюшка с обидой подобрала улыбчивые красные губы и начала поправлять сбившийся платок. А сама косила глазами туда же, к отбегавшей вспять хуторской окраине.
Там, у самой грани садов, до сих пор торчали из земли четыре бетонных куба и ржавая заклёпанная труба посреди них — остатки давней буровой. Ветер гнал к хутору пыльный вал и надул уже целый сугроб вокруг бетонных кубов, почти скрыл из виду.
Агния все поняла, вздохнула и вновь прильнула к Анастасии, задышала с сочувствием.
— Ох, Настюшка… — говорила она быстрым шепотком, не таясь ближних товарок и бабки. — Не думала б ты о нём, давнее дело-то, чего уж душу без толку тревожить! Уехал и уехал, и ляд с ним, ихнее дело такое. Не нашли тут чего искали — дальше поехали! А мы ж не птицы, чтобы крыльями взмахнуть да следом займи…
— А я и не думаю, — оборвала её Анастасия и перестала глядеть через борт. — Чего это ты вспомнила? От Коли писем давно нету, вот и болит душа. А ты о чём?
— Да ведь восемь лет! Чего уж мучиться? — несогласно сопнула Агнюшка.
— Пять… — сказала неожиданно для себя Анастасия. И, краснея, уткнулась в плечо Агнии.
А вспомнила совсем другое, давнее, полузабытое, что лежало глубоко в душе, на самом донышке. О чём и разговора не было…
Ах, белые снега, белые снега! Той самой дорогой, по которой нынче пробивалась через пыльные омёты колхозная машина, а на ней тряслись женщины из звена Агнюшки Поляковой, той самой дорогой от Малого леска, называемого по-здешнему Кругликом, входил в хутор двадцать шесть лет назад конный полк… Усталые рыжие кони в потёках грязи и пота, с коротко подвязанными тяжёлыми хвостами, месили расквашенную снеговую жижу, и всадники были усталые, обросшие, озабоченные и какие-то виноватые… И хуторские девки, высыпавшие к плетням, увидели тогда впервой красно-рыжих коней на белом-белом снегу. И заплакали, увидя отступавших казаков… Корпус генерала Кириченко отходил с боями в горы, к Хадыженской и Гойтхскому перевалу… Она хорошо знала, что было это летом, в июле не то в августе, но по какой-то непонятной причине так вот помнилось, будто зима была кругом и белые снега расстилались вокруг хутора, пламенели на солнце. Плавилась будто целина тонкого наста по сторонам дороги, мелькали кони и башлыки, и все плясало и двоилось в мокрых, залитых слезами глазах Настюшки Долговой. В хуторе все знали, что эти самые казаки выиграли недавно большой бой под Кущевской, а отходили всё же, потому что весь фронт откатывался… Жалко их было, и хотелось каждого обнять, расцеловать, накормить и никуда не выпускать из дому… Такая уж она была в ту пору. Все люди были ей как родня, и не страшилась она ничего, вся летела будто навстречу каждому с душой нараспашку. Мать называла её «круженой», и хоть близкими были слёзы по всякой малой причине, ан и сил некуда было девать. Любила дальнюю ходьбу, да чтобы одной, да полевой дорожкой, посреди пшеницы. А ежели запоют, так вся исходила в голосистой хоровой песне, а пуще — вымокнуть в грозу любила. Бывало, заохают соседки, завизжат девчата от грома, закрестятся старухи, начнут искать крова над головой, а она стянет косынку на плечи, распустит волосы и как оглашённая подальше от крыши… До нитки вымокнуть под гремящим водопадом, хохотать от хлещущих молний — то ли не радость?! Слёзы застилали ей глаза, а полк всё шёл по улице, притолачивая дорогу, и она крепко держалась обеими руками за плетнёвые колья, чтобы не перепрыгнуть через тот низкий плетень навстречу… Скуластый казачок с забинтованной наискосок головой, из крайнего ряда, кивнул ей и засмеялся озорно, без всякого уныния — видно, совсем молодой был и тоже любил ещё вымокнуть в грозу, а мокрая, охлюстанная по низу шинель неплохо грела его. А сам на соседнего бородатого старшину оглянулся виновато. Кивнул и проехал, и все. И стали казаки в хуторе на недельный постой, в хату Долговых набилось их много, добрая полусотня. И те двое, молодой и старый, к ним попали. Мать в тот вечер подоила корову раньше времени — ей, матери, тогда чуть больше сорока было, — а Настюшке велела жарить картошку на большой сковороде. Бородатый пожилой старшина долго стоял тогда у ворот сарая, неотрывно смотрел, как мать доит корову. Слушал, как поют первые, тугие струи о стенку подойника, как мягко пенят вскипевшие верхи, а сам держался за воротца чёрной огромной ручищей и смолил толстую цигарку, вздыхал. На старинном синем чекмене, туго обтянувшем грудь, серебрился потёртый крестик Георгия, и красно впечаталась в сукно свежая, ещё не потерявшая глянца, звёздочка. Мать сидела в глубине сарая, спиной к нему, и ничего не видела. Хватко и привычно выдаивала корову, локти не двигались… Потом старшина отлучился куда-то и принёс канистру самогона. Мать совсем замыкалась. Вычистила заново стекло висячей лампы-«молнии», новую кофточку надела ради чужих людей. Настюшку чуть не загоняла — то в погреб за малосольными огурцами, то на чердак за вяленой рыбкой шемайкой. А когда сели за стол в сумерках, рядом с хмурым старшиной оказался тот, молодой, скуластенький, и заместо бинта у него оставалась чистая, свежая марлевая наклейка повыше брови, как от лёгкого ранения. И по первой выпили все, а потом старшина забрал у молодого гранёный стакан, отставил в сторону и больше не велел в ту посуду наливать. Оказалось: сын… — Ты у меня гляди, — сказал он парню, а Настюшка все слышала с другого края стола. — Ты — гвардеец Кружилин, а потому под столом быть не должон! Молодой противился, краснел перед казаками и всё норовил достать стакан. А застолица гомонила, взрываясь смехом и невесёлыми шутками, и молодой опять вырывался вперёд, хотел обчать песню, новую, походную, про дарёную шашку и дарёную пику, разлуку у струганых ворот, и опять отец-старшина опускал ему на плечо тяжёлую руку, придерживал. И опять все смеялись. Парень тот был, как видно, не из робких, но старался не смотреть в сторону Настюшки. Она тоже смеялась, а всё же краешком сердца жалела его… — Так чего, Гордеич? — сказал тогда лейтенант, сидевший по левую руку от старшины. — Может, и верно, споём, а? — «Затоскует горлинка!» — подсказал сын, умоляюще глянув на лейтенанта. Песня такая была довоенная, хорошая, и все знали её наизусть. И ждали, готовились
Ах, белые снега, белые снега! Той самой дорогой, по которой нынче пробивалась через пыльные омёты колхозная машина, а на ней тряслись женщины из звена Агнюшки Поляковой, той самой дорогой от Малого леска, называемого по-здешнему Кругликом, входил в хутор двадцать шесть лет назад конный полк… Усталые рыжие кони в потёках грязи и пота, с коротко подвязанными тяжёлыми хвостами, месили расквашенную снеговую жижу, и всадники были усталые, обросшие, озабоченные и какие-то виноватые… И хуторские девки, высыпавшие к плетням, увидели тогда впервой красно-рыжих коней на белом-белом снегу. И заплакали, увидя отступавших казаков… Корпус генерала Кириченко отходил с боями в горы, к Хадыженской и Гойтхскому перевалу… Она хорошо знала, что было это летом, в июле не то в августе, но по какой-то непонятной причине так вот помнилось, будто зима была кругом и белые снега расстилались вокруг хутора, пламенели на солнце. Плавилась будто целина тонкого наста по сторонам дороги, мелькали кони и башлыки, и все плясало и двоилось в мокрых, залитых слезами глазах Настюшки Долговой. В хуторе все знали, что эти самые казаки выиграли недавно большой бой под Кущевской, а отходили всё же, потому что весь фронт откатывался… Жалко их было, и хотелось каждого обнять, расцеловать, накормить и никуда не выпускать из дому… Такая уж она была в ту пору. Все люди были ей как родня, и не страшилась она ничего, вся летела будто навстречу каждому с душой нараспашку. Мать называла её «круженой», и хоть близкими были слёзы по всякой малой причине, ан и сил некуда было девать. Любила дальнюю ходьбу, да чтобы одной, да полевой дорожкой, посреди пшеницы. А ежели запоют, так вся исходила в голосистой хоровой песне, а пуще — вымокнуть в грозу любила. Бывало, заохают соседки, завизжат девчата от грома, закрестятся старухи, начнут искать крова над головой, а она стянет косынку на плечи, распустит волосы и как оглашённая подальше от крыши… До нитки вымокнуть под гремящим водопадом, хохотать от хлещущих молний — то ли не радость?! Слёзы застилали ей глаза, а полк всё шёл по улице, притолачивая дорогу, и она крепко держалась обеими руками за плетнёвые колья, чтобы не перепрыгнуть через тот низкий плетень навстречу… Скуластый казачок с забинтованной наискосок головой, из крайнего ряда, кивнул ей и засмеялся озорно, без всякого уныния — видно, совсем молодой был и тоже любил ещё вымокнуть в грозу, а мокрая, охлюстанная по низу шинель неплохо грела его. А сам на соседнего бородатого старшину оглянулся виновато. Кивнул и проехал, и все. И стали казаки в хуторе на недельный постой, в хату Долговых набилось их много, добрая полусотня. И те двое, молодой и старый, к ним попали. Мать в тот вечер подоила корову раньше времени — ей, матери, тогда чуть больше сорока было, — а Настюшке велела жарить картошку на большой сковороде. Бородатый пожилой старшина долго стоял тогда у ворот сарая, неотрывно смотрел, как мать доит корову. Слушал, как поют первые, тугие струи о стенку подойника, как мягко пенят вскипевшие верхи, а сам держался за воротца чёрной огромной ручищей и смолил толстую цигарку, вздыхал. На старинном синем чекмене, туго обтянувшем грудь, серебрился потёртый крестик Георгия, и красно впечаталась в сукно свежая, ещё не потерявшая глянца, звёздочка. Мать сидела в глубине сарая, спиной к нему, и ничего не видела. Хватко и привычно выдаивала корову, локти не двигались… Потом старшина отлучился куда-то и принёс канистру самогона. Мать совсем замыкалась. Вычистила заново стекло висячей лампы-«молнии», новую кофточку надела ради чужих людей. Настюшку чуть не загоняла — то в погреб за малосольными огурцами, то на чердак за вяленой рыбкой шемайкой. А когда сели за стол в сумерках, рядом с хмурым старшиной оказался тот, молодой, скуластенький, и заместо бинта у него оставалась чистая, свежая марлевая наклейка повыше брови, как от лёгкого ранения. И по первой выпили все, а потом старшина забрал у молодого гранёный стакан, отставил в сторону и больше не велел в ту посуду наливать. Оказалось: сын… — Ты у меня гляди, — сказал он парню, а Настюшка все слышала с другого края стола. — Ты — гвардеец Кружилин, а потому под столом быть не должон! Молодой противился, краснел перед казаками и всё норовил достать стакан. А застолица гомонила, взрываясь смехом и невесёлыми шутками, и молодой опять вырывался вперёд, хотел обчать песню, новую, походную, про дарёную шашку и дарёную пику, разлуку у струганых ворот, и опять отец-старшина опускал ему на плечо тяжёлую руку, придерживал. И опять все смеялись. Парень тот был, как видно, не из робких, но старался не смотреть в сторону Настюшки. Она тоже смеялась, а всё же краешком сердца жалела его… — Так чего, Гордеич? — сказал тогда лейтенант, сидевший по левую руку от старшины. — Может, и верно, споём, а? — «Затоскует горлинка!» — подсказал сын, умоляюще глянув на лейтенанта. Песня такая была довоенная, хорошая, и все знали её наизусть. И ждали, готовились
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (11) »