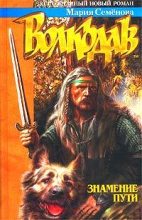- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (110) »
времени слух писателя яснее всего улавливал как раз ту самую тревогу и неуравновешенность, о какой говорил он в приведенной выше заповеди.
И сколько раз он отрекался от Достоевского, скольких других великих противопоставлял ему, клянясь всем им верностью и любовью и уверяя в том, что так непохожий на них Достоевский совершенно для него неприемлем. Вот рядом с Достоевским лежит на столе том Шекспира. Кого же из них предпочесть? Ну, конечно, Шекспира — «само солнце, саму радость жизни». Только он может быть избран в пример — бесстрашный перед преувеличением и даже перед тривиальностью, управляемый теми же законами, «что море, горы и лес». А если сравнить Достоевского с Бальзаком?
«Только Бальзак, никогда Достоевский, за которым нельзя пойти, который не оставляет человеку выхода, который — сама агония…» — «Бальзак? Да, только Бальзак».
И тут же он протягивает цепочку преемственности, которую открывает именем Паскаля, сравниваемого с «пылающим лесом», — Паскаля, в чьей тени, по словам Рудницкого, способен затеряться и Монтень со всей своей тонкостью и богатством, — и вводит в ту же цепь Достоевского, называя его «беллетризированным Паскалем» и имея в виду собственные слова о писателе, который, будучи подожжен одним пожаром, бросается в новый огонь, а «снятый с одного креста, бежит навстречу другим, не замедляя своего бега». И это опять не что иное, как весьма прозрачная расшифровка собственного понимания природы литературного долга. Согласно этому пониманию, «моралист» выше «беллетриста»; вопросы, которые он ставит, существеннее, чем преходящие «картинки жизни», и потому произведения «моралистов» просуществуют в читательской среде дольше и принесут больше пользы, чем книги, которые могут быть причислены к «беллетристике» — так, как понимает этот термин Рудницкий.
Гуманизм писателя — понятие широкое и в сочетании обоих слов, казалось бы, столь же естественное, как женственность женщины или ребячливость ребенка. Рудницкий конкретизирует его, говоря о писателе-моралисте, то есть имея в виду постоянную озабоченность писателя сохранением высоких моральных принципов общества, заботу о его моральном здоровье. Первейшей обязанностью литературы является с этой точки зрения врачевание душ. И именно потому отношение к Достоевскому становится для Рудницкого таким необходимым критерием — в поисках методов врачевания и в определении собственной писательской позиции. Тургенев и Достоевский — не просто два имени, но два полюса моралистической литературы: проповедь доброй ясности или углубление в темные подполья; терпеливая ласковость врачующей руки или жесткая решительность хирурга. Адольф Рудницкий прошел обоими этими путями, и в осмыслении действительного своего призвания оказались для него — впрочем, как и для многих других разноязычных писателей-современников — столь насущно важными беспокойные размышления о Достоевском. В громадном и неисчерпаемо сложном исследовании человеческой души, каким является все творчество этого писателя, полнее всего выразил себя художник-моралист, самосжигающийся в собственной проповеди, смертельно израненный теми же ранами, какие обнажает он в своих книгах. «Моралист» — это слово само по себе давно уже стало синонимом скучного и холодного «поучателя». Пример Достоевского наполняет его иным смыслом, сочетая проповедь с исступленной страстью, с кровоточащей раной, с костром, который пылает под неутихающими порывами ураганного ветра.
Достоевскому посвящена огромная литература у нас и за рубежом; на протяжении века к нему обращались великие гуманисты и пытались сделать своим знаменем самые черные реакционеры — но не в этой статье возвращаться к запутанному, давнему и разноголосому спору. Здесь речь лишь о том, что искал и нашел в Достоевском Рудницкий, как сам он определил свое отношение к «великому русскому» и как обозначил испытанные влияния. А в том, что это наиболее существенные влияния из всех формировавших Рудницкого как художника, — сомнений быть не может. Нет другого писателя, которого бы Рудницкий, столь склонный к самораскрытию перед читателем, упоминал бы так часто и так пристрастно.
Накануне семидесятипятилетия со дня смерти Достоевского Рудницкий посвятил ему новую (которую уже по счету?!) «голубую страничку» — едва ли не самую обширную из всех им написанных (в книге эта «страничка» занимает восемнадцать страниц)[2] — и попытался ответить на собственный старый вопрос с исчерпывающей полнотой и откровенностью. «На тропу Достоевского, — признается он здесь, — я ступил еще мальчишкой, и тропы этой не оставлял уже никогда». Но вскоре он тут же обозначает рубеж, прошедший через его отношение к Достоевскому и размежевавший два периода, — когда апостольское увлечение сменилось тем самым яростным отталкиванием, которое не раз находило свое выражение в предыдущем сборнике «Голубых страничек», вышедшем годом раньше. Таким рубежом оказалась война, весь трудный опыт военных испытаний, пережитых писателем и его народом. Вот как говорит об этом сам Рудницкий:
«До войны я был заключен в Достоевском, как в гробу. Лишь во время оккупации я пережил сильнейшее чувство освобождения: глубины Достоевского начали меня раздражать, весь Достоевский начал казаться лживым, надуманным, а более всего ненужным, ненужной стала вся его усложненность. Я перестал понимать, зачем это все: в оккупации смысл жизни был ясен, границы добра и зла, как это всегда бывает во время войны, ни в ком не вызывали сомнений. В то время, когда миллионы гибли в печах, художники массово возвращались к Вермееру, но ни разу не дошло до меня, например, имя Пикассо. Только щедрая, прекрасная, немудрящая песнь жизни доходила до сердца — и ничто иное. Читатели возвращались к Толстому, к Прусту, но никто — к Достоевскому. Так много было вокруг смертей, усложнений, чрезвычайностей, что они перестали кого-либо занимать. Жизнь в своих самых простых, наименее изысканных, будничных очертаниях казалась самой глубокой, наипрекраснейшей и желанной… Достоевский нигде не описывает чуда такой жизни; нет другого писателя, для которого это чудо было бы более чуждым, оттого он и должен был раздражать… Однако едва наступил мир, как снова ожили мои прежние чувства. И не только мои. Достоевский стал по-прежнему дорог — и не только мне».
Но прежнее чувство не означало прежнего отношения, в изменившемся мире оно не могло быть прежним. А изменившийся мир приобрел для Рудницкого те черты, какие несет на себе восстановленный из пепелища Старый город Варшавы: всему, что было дотла сметено войной, со всей любовью и тщанием
- 1
- 2
- 3
- 4
- . . .
- последняя (110) »