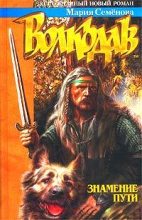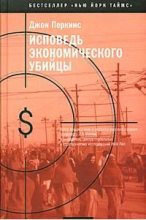васильками и синими кувшинчиками поэт не остался, веселый месяц май не удовлетворяет его и ощущается им как некая часть, которой он не в силах слить с целым. Подавленный своею дробностью и разрозненностью, Толстой всегда чувствует отдельно землю и отдельно небо; у него есть соседство двух миров, но не их тожество, на которое способна только душа внутренне претворяющая. Вселенная распадается для него на два полушария – не слито, не достигнуто великое Одно. И потому он часто в разных формах говорит о том, что душа его влекома в беспредельное, чует незримое, но что в то же время он не чужд и здешней жизни – она лишь не кажется ему «окончательной целью». Ибо цель – в цельности.
вот искреннее признание Толстого. Он любит землю, но возносится над нею и в своей лирике запечатлел отрадную – быть может, от других унаследованную, отчасти на веру принятую – веру, что земное не есть начало и не есть завершение жизни. Его религиозное чувство, правда, сильно умерено его эстетизмом, но в самой эстетике его, в его поэзии таятся и воспоминания о сверхчувственном и надежды на него. Он смотрит на жизнь, и ему кажется:
Душа, как у Платона, вспоминает песни, которые уже звучали некогда, которые и теперь безмолвно живут в ней; и, может быть, лучшие псалмы каждого – это «мои непетые псалмы»; каждый, подобно Иоанну Дамаскину, внемлет «внутренним звукам» своего сердца. Все мировые звуки – отзвуки прошлого. Но есть и будущее; и верит поэт, что все наши слова сольются в Слово, откуда они истекли, что все наши отдельные любви сольются в одну Любовь, широкую, как море, что не вместят земные берега. И вот, Эрос, тоска по той вечности, которой Толстой не сумел постигнуть здесь, на земле, в берегах времени, обычная людская неудовлетворенность всякой данной жизнью, – это желание горнего и породило в нашем художнике его печаль, затуманило его майскую радость, вдохнуло в нее сладостную мелодию грусти. Вот почему и весело и грустно его сердцу; вот почему вылечится острою секирой раненная береза, но не залечит раны это больное сердце – вечная рана жизни, неисцелимая человеческая боль!..
Тот, кто вдохновенными устами певца-монаха благословляет и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду, кто сливается душою с мирозданием, тот воспринимает от него, от его полей и небес, от его былинок и звезд, не только их радость, но и всю их печаль; и, вступая в мир, видит пред собою дитя-Христос Голгофу – и свою, и всей земли. Конечно, было бы преувеличением сказать про Толстого, что он глубоко со-причастен этому пантеизму страдания и сострадания; конечно, часто его слезы – просто от счастья; но бесспорно, что ему близки и дороги были мотивы умиления и какой-то универсальной любви, утешения всем: «вы, Христу сопогребенные, совоскреснете с Христом», привета всем: «и кто меня слушал, привет мой тому, и тем, кто не слушал, мой также привет». Недаром в его трагедиях единственный образ, который поднимается над историей к вечному, над русским – к общечеловеческому, – это идеал кротости и благоволения, воплощаемый царем Феодором. Недаром у него обрисована женщина, которой самый воздух, самая жизнь кажутся «стяжанием неправым». И когда начинается осень и осыпается весь наш бедный сад, Толстой хочет заслонить от осени любимую женщину, – вероятно, ту самую женщину; он нежно греет и жмет ее руки, он смотрит ей в глаза, он молча льет свои умиленные слезы. Кто так расположен к людям и всему живущему, тот не может отрешиться от грусти; и ею же проникнуто стремление к «миру незримому».
Итак, это сочетание майской радости и печали, эта мелодичная игра на «натянутых струнах между небом и землей» и придают лирике Толстого нежную ласковость, тонкую элегичность, звуки благодарности к Богу, природе, женщине. Всегда отрадно слышать особый, проникающий в сердце тембр его поэтического голоса. Он поет чаще всего о прошлом, он вспоминает утро наших лет, или вечер, или какой-нибудь успокаивающий пейзаж; в прошлое отодвигает он источники своих задумчивых вдохновений. Это – лиризм уже не молодого, уже многое испытавшего духа, это – лиризм прекрасного и печального вечера. То, что слишком ярко и горячо, то, что по своей внутренней напряженности идет дальше ранней, но уже давно пережитой и только вспоминаемой весны или поникающей и осыпающейся осени, – все это не вызывает его из неги бездействия, не концентрирует его рассеянной души. Но «в скромный, тихий день» его «сжатая мечта», мечта, ничем не отвлеченная, «зовет толпы видений, как зажигательным рождая их стеклом». И тихой искоркой горит его скромная, ненавязчивая, желанная поэзия. Если бы он не уходил от своего лиризма так далеко, в эту костюмированную старину, в эту красивость, он был бы гораздо ценнее, чем теперь; если бы он остался автором нескольких лирических пьес, аристократом чувства и настроений, это было бы для него лучше. Тем богаче стал бы Толстой, чем больше отбросил бы он своих аксамитов и чар сердоликовых и еще – сквозных тканей своей театральной грешницы…
Есть, однако, у него сфера, где сходятся обе грани его роковой двойственности, где действует сила еще не осуществленного, но близкого синтеза, – это область, в которой сливаются явь и сновидение, реальность и выдумка. «Меж сном и бденьем краток промежуток», и в течение его мир перестраивается, – и как отличить, что в нем – правда и что – видение? Это девять волков или девять ведьм идут ночью по деревне? Слышится ли в самом деле песня там, где гнутся над омутом лозы? Наступает ли просто вечер, обыкновенный вечер без тайны, или в ступе поехала баба-яга и в Днепре заплескались русалки? Вы можете принять то или другое (как это выяснил уже Владимир Соловьев); незаметно переходит действительность в грезу, и любит поэт играть с сверхъестественным, – например, показывать (в «Упыре») бессмертие человеческого жилища, вечную обитель души, или эту невесту, покинутую женихом, но все ожидающую его – на портрете, который остался после нее. Смена дневной естественности и ночных чудес так хорошо выражена в «Портрете», где школьный день мальчика завершается ночью пробудившейся любви, где под одною кровлей живут будни и волшебство. Нравственная весна коснулась мальчика – то время, «когда для нас мучителен и сладок бывает платья шелкового шум». Тогда мы переживаем еще только «трепет чувств», и цветет в нас «душистый цвет, плодом незаменяем» (поэт весны, Толстой не раз высказывает свое равнодушие к плоду, и, когда деревцо миндальное все цветами убирается, в сердце его думушка
Гляжу с любовию на землю,
Но выше просится душа —
Все это было когда-то, —
Но только не помню когда.