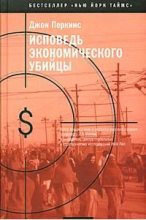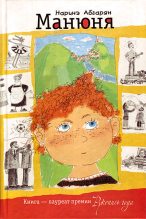несколько месяцев до своего освобождения в 1954 году стали получать через Красный крест посылки, а писем не получали никогда.
Большинство из них сидели за контакты с Западной зоной или за связь с русскими. Мне хотелось узнать, что это за люди. Люди были разные. Помню Рут Гроцапко, худенькую интеллигентную девушку, которая познакомила меня со стихами Рильке. Я их учила наизусть. Рут рассказывала мне про Ницше, племянником которого был её «трук», и её рассказы не укладывались в рамки представлений бывшей советской школьницы об этом мыслителе. Портниха Лена Ниссен тосковала по детям, о которых ничего не знала уже шесть лет. Я говорила ей, что она похожа на типичного карикатурного «фрица» — очень светлые волосы и глаза, голова закутана до самого кончика замёрзшего длинного носа в тёплый платок, её единственное сокровище. Ленхен и её подруга Ирма Вагнер угощали меня отличным муссом, приготовленным из кваса, который нам давали от цинги, учили содержать в порядке вещи, а к Рождеству, когда немки делали друг другу подарки, они и мне дарили всякие вещицы: пёстрого клоуна для иголок и ниток (долго я его хранила, но он совсем истрепался и в Израиль не попал), мешочек для ложки. Когда разнёсся слух, что их должны освободить, Лена и Ирма подарили мне свои блузки. В блузке Лены я в 1956 году сфотографировалась для своего первого после освобождения паспорта.
Ирма была очень хорошенькой, с наивным взглядом бархатных глаз. Одного не могла простить Лена своей подруге — у той был на родине роман с советским полковником. Ради неё он оставил семью, они решили вместе бежать в Западную зону, чтобы пожениться. Он перебрался первый. Она ждала его звонка, но позвонил чей-то чужой голос, она решила, что это провокация, и осталась дома. Её арестовали. Не дождавшись её, полковник вернулся, пришёл к ней домой, и его взяли тоже. Больше она о нём ничего не слышала и часто плакала, боясь, что его нет в живых.
Бывало, я разговаривала с немками о фашизме. Могу констатировать, что немки — наименее заражённый юдофобством лагерный элемент. То соображение, что они, может быть, скрывали свои чувства, я не беру в расчёт. Была у меня возможность убедиться, что это люди меньше всего скрывают. Помню, правда, рассуждения одной немки о том, что Гитлер не зря был против евреев. Они захватили все места в Германии, а немцы — народ мягкий, добродушный, вот их и вытеснили отовсюду…
С молодой венгеркой Иринкой Геренчир я дружила ещё на 49-й колонне. Её брат воевал против русских. Сама она участвовала в какой-то подпольной молодёжной организации, членов которой посадили вскоре после войны. Маленького роста, с круглым лицом и широко расставленными глазами, она поражалась, что дружит с «коммунисткой» — такое у неё сложилось обо мне впечатление. Но не могу сказать, что её взгляды на жизнь как-то в корне отличались от моих. Помню, как я излагала ей по дороге на работу свои представления о бессмертии души. Я говорила, воображая, что это очень оригинальная мысль, что бессмертие человека — в памяти о нём, в его добрых делах, и этого достаточно. Иринка радовалась, что мы говорим о таких умных вещах, читала мне стихи Петефи о том, как хорошо погибнуть на поле боя за родину. Она сидела уже 6 лет, не упуская возможности чему-то в лагере научиться. Её русский язык был безупречен, и она очень любила Пушкина. С 49-й колонны её отправили на этап. Мы изредка обменивались записками через других заключённых, которых перевозили с колонны на колонну. Перед освобождением (вместе с другими иностранцами) она написала письмо мне и ещё одной москвичке, Маше Чувиловой. В начале войны Маша училась в 10-м классе. Попросилась на фронт и прославилась как десантница: в лагере была женщина, знавшая на фронте о её подвигах. Маша попала в плен, встретила в лагере чеха, после войны они поженились. Она осталась в Чехословакии, где её и арестовали. Следователь на допросах говорил: «Не захотели стать Зоей Космодемьянской и погибнуть — теперь сидите». В лагере Маше повезло: она работала сапожницей. Письмо Иринки Маше и мне кончалось словами: «Прощайте, никогда не забываемые, дорогие русские!»[69].
Однажды Иринка вспомнила, как куда-то гнали евреев, а они с братом стояли и смотрели. А потом она стояла и смотрела, как гнали её брата, и глубоко чувствовала закономерность происходящего. Она не сказала мне, в чём была вина её брата, а я не спрашивала.
С принятием судьбы своей и своих близких как закономерности я встретилась и со стороны некоторых знакомых немок. Это не мешало им ненавидеть своих нынешних тюремщиков.
Я тоже чувствовала, что в моей судьбе, в том, что я нахожусь здесь, есть своя закономерность, связанная с судьбой моих родителей, активных участников революции. Сами они давно освободились от заблуждений прошлого. А я много думала о том, как становятся революционерами, какие силы на это толкают, и хотя в каком-то высшем смысле осуждала этот путь, моё осуждение не было однозначным, безоговорочным.
Принятие своей судьбы как закономерности — не то же, что принятие возмездия за грехи отцов, своего класса или народа. Я признавала и признаю только личную ответственность за свои поступки и не считаю себя причастной к трагедии, которая произошла в России. Когда Вера говорила, что ей стыдно здесь, в лагере, быть русской, так как «мой народ угнетает другие народы», — мне это было непонятно. И позже я спокойно ездила в Прибалтику, чувствуя себя там гостем, а не оккупантом. Если бы на меня кто-нибудь косо там посмотрел, я бы объяснила, почему не надо ко мне чувствовать вражды.
Я даже подозреваю, что это упомянутое чувство вины — не многого стоит. Оно абстрактно: такую вину нельзя искупить, в ней бесплодно каяться.
На 20-й колонне я дружила ещё с одной немкой, Урсулой. На эту дружбу с беспокойством смотрели мои подруги и знакомые. Лена печально констатировала, что её соплеменница «швайн»: Урсула была из тех, кого в лагере называли по-разному — от смешливого «оно» до, по-блатному, «кобёл». Термин «лесбиянка» не был принят. Желая походить на мужчин, такие женщины часто ходили в брюках и коротко стриглись. Особенно много их было среди блатных, на втором по количеству месте — немки, бывали они и среди нашей интеллигенции. Украинки — в своём большинстве крестьянки — а также религиозные, были неподвержены моральному разложению, неуязвимы для всякой лагерной заразы — доносительства, воровства, сожительства с начальством и, наконец, лесбиянства[70]. Среди религиозных женщин случалось наблюдать проявления экзальтированной дружбы, но не более того.
Откровенно вели себя блатные. Явление это запечатлено в их фольклоре. Известна поговорка: